Константиновское плато
(бикет)
(бикет)
Природа, история и достопримечательности.
"Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит."
"Выхожу один я на дорогу" (1841 г.)
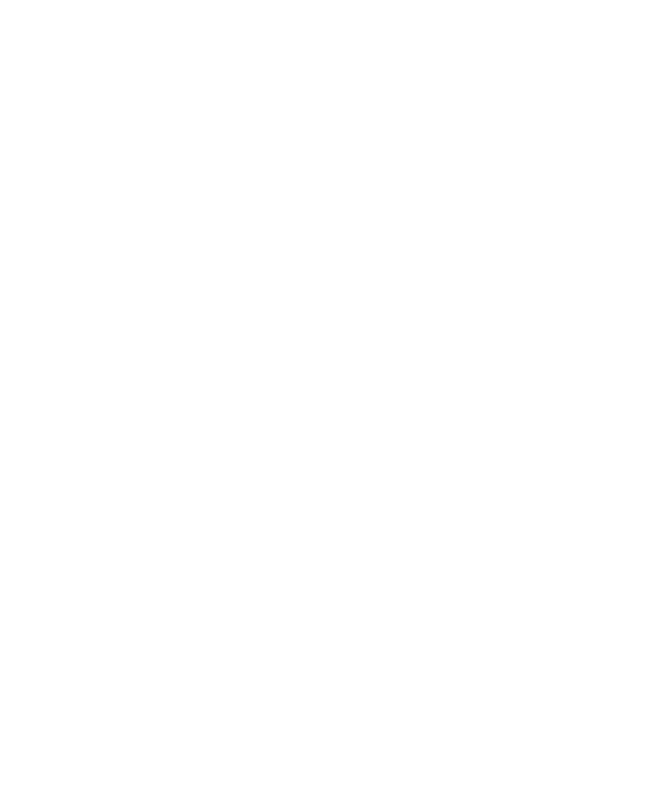
Михаил Юрьевич Лермонтов
Русский поэт, прозаик, драматург, художник. Поручик лейб-гвардии гусарского полка.
Содержание
Основные разделы этой страницы.
Начальные сведения
Главное о об этом месте
Что посмотреть
Кратко о самом интересном
Геология
Немного о геологическом строении, рельефе и горных породах.
Гидрогеология
Родники и минеральные источники.
Климат
Немного о климате и погоде.
Почвы и растения
Растительный мир.
Животный мир
Палеонтологические находки и современные обитатели.
История
Кратко об истории этого места.
Достопримечательности
Памятники археологии и истории.
Искусство
Литература, живопись, кино.
Дополнительно
Доступность, дороги, кафе, гостиницы, магазины, безопасность.
Что такое Константиновское плато
Уникальный природный объект Пятигорска. Маршруты для прогулок, история, панорамы города и окрестностей. Куда сходить туристу.
Начальные сведения.
Константиновское плато – это общепринятое наименование возвышенности, примыкающей к восточному и северо-восточному склонам горы Машук. Оно было дано в 1881 году известным российским археологом, исследователем памятников древности России Дмитрием Яковлевичем Самоквасовым в честь младшего брата императора Александра Второго великого князя Константина Николаевича.
Следует отметить, что и окружающие горы имели наименование Константиновских, названных в честь другого Великого князя Константина Павловича, родившегося 27 апреля 1779 года.
Возвышенность эта имела и другое, народное название: Бикет, что является несколько искаженным наименованием от слова «пикет». Произошло оно из-за расположения на наиболее высоких местах сторожевых постов, охранявших курорт.
Это относительно небольшое плато простирается от склонов горы Машук, постепенно понижаясь и переходя в плоскую равнину. С юга и юго-востока границей этой местности является река Подкумок.
Координаты центральной части плато: N44.060654, E043.122891.
Протяженность плато с севера на юг примерно 9 километров 400 метров, а с запада на восток около 7 километров 700 метров.
Расположено оно в Российской Федерации, на просторах Ставропольского края на территории Городского округа Город-курорт Пятигорск и Городского округа Город-курорт Железноводск, Предгорного муниципального округа.
Географически плато находится на предгорьях Кавказа на Минераловодской наклонной равнине в районе Кавказских Минеральных Вод и Пятигорской вулканической области.
Следует отметить, что и окружающие горы имели наименование Константиновских, названных в честь другого Великого князя Константина Павловича, родившегося 27 апреля 1779 года.
Возвышенность эта имела и другое, народное название: Бикет, что является несколько искаженным наименованием от слова «пикет». Произошло оно из-за расположения на наиболее высоких местах сторожевых постов, охранявших курорт.
Это относительно небольшое плато простирается от склонов горы Машук, постепенно понижаясь и переходя в плоскую равнину. С юга и юго-востока границей этой местности является река Подкумок.
Координаты центральной части плато: N44.060654, E043.122891.
Протяженность плато с севера на юг примерно 9 километров 400 метров, а с запада на восток около 7 километров 700 метров.
Расположено оно в Российской Федерации, на просторах Ставропольского края на территории Городского округа Город-курорт Пятигорск и Городского округа Город-курорт Железноводск, Предгорного муниципального округа.
Географически плато находится на предгорьях Кавказа на Минераловодской наклонной равнине в районе Кавказских Минеральных Вод и Пятигорской вулканической области.
Немного о месторасположении
Плато имеет перепад высот от 450 до 620 метров над уровнем моря и от 50 до 220 над уровнем реки Подкумок.
Оно не входит в курортную зону Пятигорска, но примыкает к склонам горы Машук, являющейся комплексным памятником природы и входящей в границы охраняемых территорий.
Плато с севера, востока и юга соприкасается с жилой застройкой районов Пятигорска, поселков Иноземцево, Капельница, станицы Константиновская, поселка Средний Подкумок.
Отдельные исследователи к данному плато относят возвышенные местности у подножья горы Машук, в том числе расположенные на территории современных районов Пятигорска Белая Ромашка, Новопятигорск (до Новопятигорского озера) и некоторые другие. Также границу плато определяют по юго-восточному подножью горы Бештау.
В восточной части плато пересекает балка Широкая с каскадом искусственных прудов. Также здесь имеется ряд других водоемов как естественного, так и искусственного происхождения.
Территория этой возвышенности отчасти покрыта лесным массивом, но в основном была подвергнута активному воздействию человека.
Здесь расположены сельскохозяйственные угодья, жилая застройка, объекты хозяйственного назначения, проложены автомобильные трассы, в том числе автодорога Р-217 «Кавказ», являющаяся составной частью европейского маршрута E-50, проложенного от французского города Брест до Махачкалы.
Оно не входит в курортную зону Пятигорска, но примыкает к склонам горы Машук, являющейся комплексным памятником природы и входящей в границы охраняемых территорий.
Плато с севера, востока и юга соприкасается с жилой застройкой районов Пятигорска, поселков Иноземцево, Капельница, станицы Константиновская, поселка Средний Подкумок.
Отдельные исследователи к данному плато относят возвышенные местности у подножья горы Машук, в том числе расположенные на территории современных районов Пятигорска Белая Ромашка, Новопятигорск (до Новопятигорского озера) и некоторые другие. Также границу плато определяют по юго-восточному подножью горы Бештау.
В восточной части плато пересекает балка Широкая с каскадом искусственных прудов. Также здесь имеется ряд других водоемов как естественного, так и искусственного происхождения.
Территория этой возвышенности отчасти покрыта лесным массивом, но в основном была подвергнута активному воздействию человека.
Здесь расположены сельскохозяйственные угодья, жилая застройка, объекты хозяйственного назначения, проложены автомобильные трассы, в том числе автодорога Р-217 «Кавказ», являющаяся составной частью европейского маршрута E-50, проложенного от французского города Брест до Махачкалы.
Что посмотреть.
С различных частей плато можно полюбоваться видами на Пятигорск, горы Машук и Бештау, горы Железная, Развалка. К югу открывается вид на Большой Кавказ, горы Лысая, Юца, Джуца, Золотой Курган. Видны и другие лакколиты Пятигорской группы.
Основными достопримечательностями этой местности являются многочисленные курганные могильники. В начале XIX века здесь насчитывалось свыше пяти тысяч курганов, но к середине прошлого столетия их осталось только около трехсот.
Курганы в основном относятся к эпохе ранней и средней бронзы (конец четвертой — первая половина 2-й тысячи лет до нашей эры), в насыпях встречаются захоронения скифского и сарматского времени (седьмой век до нашей эры — четвертый век нашей эры). Также выявлены курганные насыпи позднего средневековья (XV — начало XVII века).
Особый интерес представляют так называемые солнце-курганы со спиральными кромлехами. В последние десятилетия, благодаря использованию метода аэрофотосъемки, у целого ряда курганов обнаружены своеобразные “усы” — вытянутые и изогнутые узкие каменные мощения, отходящие от курганных насыпей и тянущиеся на расстояние до нескольких километров. В плане такой курган с “усами” напоминает изображение солнца.
Обнаруженные здесь раритеты разнообразны и представлены керамической посудой, каменным и бронзовым оружием, украшениями из камня, кости и бронзы. Находки, сделанные на Константиновском плато, хранятся в Пятигорском краеведческом музее и в музеях Ставрополя, Москвы и Санкт-Петербурга.
Интерес для путешественников может представлять Широкая балка, соленые и пресные озера.
У западной границы плато расположен Государственный природный заказник краевого значения "Баталинский", где можно посетить памятник природы Баталинский источник, а также смотровую площадку в районе поселка Капельница.
Основными достопримечательностями этой местности являются многочисленные курганные могильники. В начале XIX века здесь насчитывалось свыше пяти тысяч курганов, но к середине прошлого столетия их осталось только около трехсот.
Курганы в основном относятся к эпохе ранней и средней бронзы (конец четвертой — первая половина 2-й тысячи лет до нашей эры), в насыпях встречаются захоронения скифского и сарматского времени (седьмой век до нашей эры — четвертый век нашей эры). Также выявлены курганные насыпи позднего средневековья (XV — начало XVII века).
Особый интерес представляют так называемые солнце-курганы со спиральными кромлехами. В последние десятилетия, благодаря использованию метода аэрофотосъемки, у целого ряда курганов обнаружены своеобразные “усы” — вытянутые и изогнутые узкие каменные мощения, отходящие от курганных насыпей и тянущиеся на расстояние до нескольких километров. В плане такой курган с “усами” напоминает изображение солнца.
Обнаруженные здесь раритеты разнообразны и представлены керамической посудой, каменным и бронзовым оружием, украшениями из камня, кости и бронзы. Находки, сделанные на Константиновском плато, хранятся в Пятигорском краеведческом музее и в музеях Ставрополя, Москвы и Санкт-Петербурга.
Интерес для путешественников может представлять Широкая балка, соленые и пресные озера.
У западной границы плато расположен Государственный природный заказник краевого значения "Баталинский", где можно посетить памятник природы Баталинский источник, а также смотровую площадку в районе поселка Капельница.
Геология.
Геологическое строение Константиновского плато тесно связано с горой Машук. Его поднятие над окружающей поверхностью сопоставимо с возрастом образования Машука (от 11 до 5 миллионов лет назад). Примыкание этой возвышенности к восточным и северо-восточным склонам горы позволяет сделать определенные выводы о строении плато именно как части единого машукского геологического комплекса.
Исследователи соотносят Константиновское плато с Джамагатской террасой, относящейся к эпохе среднего плейстоцена (от 400 до 200 тысяч лет назад), ровеснице эпохи Днепровского оледенения.
Константиновское плато является продолжением восточного и северо-восточного склонов горы, где заметно понижается угол уклона. Машук вытянут в северо-восточном направлении, крутизна его склонов различна.
Крутизна южного склона составляет 40-45 градусов, юго-западного, западного и северного склонов равна 15-20°, а северо-восточного – 9-10°. Само плато представляет собой возвышенность, плавно понижающуюся по направлению к северо-востоку и переходящую в равнинную местность.
Скрытый под осадочным чехлом фундамент плато геологи датируют эрой палеозоя. Он состоит преимущественно из метаморфических сланцев и гранитов Герцинской эпохи тектогенеза (350 – 250 миллионов лет назад).
Осадочный чехол, покрывающий фундамент, относится к более поздним эрам мезозоя и кайнозоя (от 251 миллиона лет назад до наших дней). В основании чехла меловые отложения (145 – 66 миллионов лет назад), состоящие в основном из слоев мела и песчаников.
Палеогеновые глины и мергели с возрастом от 66 до 23 миллионов лет назад образуют водоупорный слой, способствующий формированию минеральных вод.
Неогеновые (сарматские) известняки и пески встречаются на окраинах плато.
Эпоха плиоцена (от 5 миллионов 330 тысяч лет назад до 2 миллионов 580 тысяч лет) и четвертичного периода, продолжающегося до наших дней, отобразилась в геологическом строении Константиновского плато внедрением вулканогенных пород, что напрямую связано с возникновением и ростом горы Машук и внедрением лакколита в осадочный чехол. Магматическое ядро сложено андезитами и базальтами.
Период активного вулканизма Кавказских гор отразился на склонах плато в виде прослоев вулканического туфа и пепла.
Ну а самые поздние по геологическим меркам периоды характеризуются активными процессами выветривания и эрозии, в результате чего на склонах плато можно обнаружить коры выветривания в виде глинистых образований на поверхности.
Плато расположено в зоне Кавказских минераловодских разломов. Западная граница совпадает с Машукским разломом, на восточную влияет другое понижение, именуемое Пятигорским грабеном. Благодаря этим разломам возникли и изливаются пятигорские минеральные источники самого разнообразного свойства.
Среди стратиграфических объектов, составляющих или окружающих плато, можно выделить Горячеводскую, Лысогорскую террасы и Белоглинскую свиту.
Древние реки на протяжении миллионов лет размывали некогда плоскую равнину Пятигорья, образуя террасы. Причем, чем ниже расположена терраса, тем она моложе в геологическом измерении.
Особый интерес представляет Лысогорская терраса, которая расположена по правому берегу реки Подкумок у станицы Константиновская, поселка Нижнеподкумский и станицы Лысогорская. Высота этой местности от 480 до 580 метров над уровнем моря.
Эта терраса относится к армянскому комплексу, датируемому эпохой плейстоцена (от 2 миллионов 580 тысяч лет до 110 тысяч лет назад) и имеет высоты относительно реки Подкумок: напротив станицы Константиновской – 88 метров, у станицы Лысогорской – 120 метров, у станицы Незлобной – 63 метра. В ее аллювиальных отложениях геологами обнаружены остатки зуба и бивня типичного представителя вида крупных вымерших хоботных из рода ананкусов семейства гомфотериевых Anancus arvernensis (Cr. et Job.) и челюсть южного мамонта Archidiscodon meridionalis Nesti. По времени возникновения эта терраса сопоставима с травертиновым потоком на северном склоне горы Машук (Перкальская скала), где на высоте 180 метров над урезом Подкумка были обнаружены остатки другого представителя южных мамонтов (слонов) Elephas meridionalis Nesti.
Согласно исследованиям последних лет по методу неравновесного урана был определен возраст этой террасы 1.25 миллиона лет.
Горячеводская терраса, относящаяся к эпохе нижнего плейстоцена, представляет собой протяжённые полосы и отдельные останцы по юго-западному, восточному и северо-восточному склонам горы Машук на абсолютных отметках от 600 до 620 метров. К частям этой террасы относится гора Казачка на юго-западном склоне высотой 620 метров, а также ряд сравнительно узких полос на северо-восточном и южном склонах вдоль кольцевой дороги от Комсомольской поляны до Провала и от Провала до Новой (Верхней) радоновой лечебницы с высотами от 600 до 610 метров. Эти участки носят эрозионный характер. На большей части южного и восточного склонов Горячеводская терраса перекрыта толщей травертинов. Эта терраса соприкасается с верхней частью плато.
Белоглинская свита по периферии опоясывает Машук, в южной и юго-восточной части она залегает уже на правом берегу реки Подкумок. Породы этой свиты расположены в серединной и нижней части плато. Представлены белоглинские отложения мергелями светло-серого, зеленовато-серого и грязно-серого цвета, местами слабопесчанистыми.
Толщина свиты достигает 70 метров.
На плато широко распространены сарматские отложения, которые имеют возраст порядка от 12 до 9 миллионов лет и отражают период, когда на месте современного Предкавказья плескались теплые воды древнего Сарматского моря.
Немного поговорим о горных породах Константиновского плато.
Осадки минеральных источников — травертины — окаймляют северный, восточный и южный склоны горы Машук. На северном склоне травертиновые отложения образуют как бы застывшие огромные потоки. В каждом таком потоке можно обнаружить «завихрения» в плоскости травертинов, где когда-то располагались родники минеральной воды. Эти отложения рисского, рисс-вюрмского и вюрмского веков перекрывают частично верхнюю часть плато.
Распространены на плато и залежи известняка. В некоторых местах они выходят на поверхность, образуя скальные участки. Здесь же можно обнаружить песчаники и прослои вулканических туфов и пепла, трахитов, трахиандезитов. Обнаруживаются образцы яшм разного цвета, халцедона, кварца, кальцита, гематита (красного железняка), гнейса.
Исследователи соотносят Константиновское плато с Джамагатской террасой, относящейся к эпохе среднего плейстоцена (от 400 до 200 тысяч лет назад), ровеснице эпохи Днепровского оледенения.
Константиновское плато является продолжением восточного и северо-восточного склонов горы, где заметно понижается угол уклона. Машук вытянут в северо-восточном направлении, крутизна его склонов различна.
Крутизна южного склона составляет 40-45 градусов, юго-западного, западного и северного склонов равна 15-20°, а северо-восточного – 9-10°. Само плато представляет собой возвышенность, плавно понижающуюся по направлению к северо-востоку и переходящую в равнинную местность.
Скрытый под осадочным чехлом фундамент плато геологи датируют эрой палеозоя. Он состоит преимущественно из метаморфических сланцев и гранитов Герцинской эпохи тектогенеза (350 – 250 миллионов лет назад).
Осадочный чехол, покрывающий фундамент, относится к более поздним эрам мезозоя и кайнозоя (от 251 миллиона лет назад до наших дней). В основании чехла меловые отложения (145 – 66 миллионов лет назад), состоящие в основном из слоев мела и песчаников.
Палеогеновые глины и мергели с возрастом от 66 до 23 миллионов лет назад образуют водоупорный слой, способствующий формированию минеральных вод.
Неогеновые (сарматские) известняки и пески встречаются на окраинах плато.
Эпоха плиоцена (от 5 миллионов 330 тысяч лет назад до 2 миллионов 580 тысяч лет) и четвертичного периода, продолжающегося до наших дней, отобразилась в геологическом строении Константиновского плато внедрением вулканогенных пород, что напрямую связано с возникновением и ростом горы Машук и внедрением лакколита в осадочный чехол. Магматическое ядро сложено андезитами и базальтами.
Период активного вулканизма Кавказских гор отразился на склонах плато в виде прослоев вулканического туфа и пепла.
Ну а самые поздние по геологическим меркам периоды характеризуются активными процессами выветривания и эрозии, в результате чего на склонах плато можно обнаружить коры выветривания в виде глинистых образований на поверхности.
Плато расположено в зоне Кавказских минераловодских разломов. Западная граница совпадает с Машукским разломом, на восточную влияет другое понижение, именуемое Пятигорским грабеном. Благодаря этим разломам возникли и изливаются пятигорские минеральные источники самого разнообразного свойства.
Среди стратиграфических объектов, составляющих или окружающих плато, можно выделить Горячеводскую, Лысогорскую террасы и Белоглинскую свиту.
Древние реки на протяжении миллионов лет размывали некогда плоскую равнину Пятигорья, образуя террасы. Причем, чем ниже расположена терраса, тем она моложе в геологическом измерении.
Особый интерес представляет Лысогорская терраса, которая расположена по правому берегу реки Подкумок у станицы Константиновская, поселка Нижнеподкумский и станицы Лысогорская. Высота этой местности от 480 до 580 метров над уровнем моря.
Эта терраса относится к армянскому комплексу, датируемому эпохой плейстоцена (от 2 миллионов 580 тысяч лет до 110 тысяч лет назад) и имеет высоты относительно реки Подкумок: напротив станицы Константиновской – 88 метров, у станицы Лысогорской – 120 метров, у станицы Незлобной – 63 метра. В ее аллювиальных отложениях геологами обнаружены остатки зуба и бивня типичного представителя вида крупных вымерших хоботных из рода ананкусов семейства гомфотериевых Anancus arvernensis (Cr. et Job.) и челюсть южного мамонта Archidiscodon meridionalis Nesti. По времени возникновения эта терраса сопоставима с травертиновым потоком на северном склоне горы Машук (Перкальская скала), где на высоте 180 метров над урезом Подкумка были обнаружены остатки другого представителя южных мамонтов (слонов) Elephas meridionalis Nesti.
Согласно исследованиям последних лет по методу неравновесного урана был определен возраст этой террасы 1.25 миллиона лет.
Горячеводская терраса, относящаяся к эпохе нижнего плейстоцена, представляет собой протяжённые полосы и отдельные останцы по юго-западному, восточному и северо-восточному склонам горы Машук на абсолютных отметках от 600 до 620 метров. К частям этой террасы относится гора Казачка на юго-западном склоне высотой 620 метров, а также ряд сравнительно узких полос на северо-восточном и южном склонах вдоль кольцевой дороги от Комсомольской поляны до Провала и от Провала до Новой (Верхней) радоновой лечебницы с высотами от 600 до 610 метров. Эти участки носят эрозионный характер. На большей части южного и восточного склонов Горячеводская терраса перекрыта толщей травертинов. Эта терраса соприкасается с верхней частью плато.
Белоглинская свита по периферии опоясывает Машук, в южной и юго-восточной части она залегает уже на правом берегу реки Подкумок. Породы этой свиты расположены в серединной и нижней части плато. Представлены белоглинские отложения мергелями светло-серого, зеленовато-серого и грязно-серого цвета, местами слабопесчанистыми.
Толщина свиты достигает 70 метров.
На плато широко распространены сарматские отложения, которые имеют возраст порядка от 12 до 9 миллионов лет и отражают период, когда на месте современного Предкавказья плескались теплые воды древнего Сарматского моря.
Немного поговорим о горных породах Константиновского плато.
Осадки минеральных источников — травертины — окаймляют северный, восточный и южный склоны горы Машук. На северном склоне травертиновые отложения образуют как бы застывшие огромные потоки. В каждом таком потоке можно обнаружить «завихрения» в плоскости травертинов, где когда-то располагались родники минеральной воды. Эти отложения рисского, рисс-вюрмского и вюрмского веков перекрывают частично верхнюю часть плато.
Распространены на плато и залежи известняка. В некоторых местах они выходят на поверхность, образуя скальные участки. Здесь же можно обнаружить песчаники и прослои вулканических туфов и пепла, трахитов, трахиандезитов. Обнаруживаются образцы яшм разного цвета, халцедона, кварца, кальцита, гематита (красного железняка), гнейса.
Гидрогеология. Источники подземных вод.
Константиновское плато — часть геолого‑тектонического комплекса горы Машук, окружённого зоной активных разломов (Машукский разлом, Пятигорский грабен). Эти тектонические нарушения обеспечивают выход глубинных термальных и углекислых вод, благодаря чему район стал одним из центров формирования уникальных источников Кавказских Минеральных Вод.
Главная гидрогеологическая особенность плато — наличие месторождений минеральных вод различного химического состава. Здесь формируются углекислые, сероводородные, радоновые воды. По сути, Константиновское плато вместе с Машуком — это ядро Пятигорского месторождения минеральных вод, одного из крупнейших и наиболее разнообразных по составу в России.
Плато является также местом зарождения термальных вод, используемых в санаториях поселка Иноземцево.
На склонах плато в наше время выделяются участки зарождения минеральных вод, которые относятся к пятигорскому курорту. Они носят сложные наименования: Восточно-машукско-лысогорский и Восточно-наблюдательно-машукскогорский. Здесь происходит углекислая соляно-щелочная минеральная вода, используемая в бальнеологии и для розлива.
Непосредственное отношение к Константиновскому плато имеют воды расположенного на его границе Баталинского источника. Этот уникальный источник происходит из глинисто-щебнисто-гравийных отложений четвертичного возраста. Вода его холодная высокоминерализованная, сульфатная магниево-натриевая, относящаяся к водам «баталинского типа».
Крупных естественных озёр на Константиновском плато нет, поскольку оно имеет склоновый и эрозионный рельеф без замкнутых котловин. Здесь находятся небольшие естественные водоемы, в том числе и соленые, а также искусственные пруды.
Вдоль южной и восточной окраины протекает река Подкумок — основная водная артерия региона, правый приток Кумы. В сторону этой реки стекают небольшие ручьи и временные водотоки, расположены балки, среди которых выделяется Широкая балка.
Главная гидрогеологическая особенность плато — наличие месторождений минеральных вод различного химического состава. Здесь формируются углекислые, сероводородные, радоновые воды. По сути, Константиновское плато вместе с Машуком — это ядро Пятигорского месторождения минеральных вод, одного из крупнейших и наиболее разнообразных по составу в России.
Плато является также местом зарождения термальных вод, используемых в санаториях поселка Иноземцево.
На склонах плато в наше время выделяются участки зарождения минеральных вод, которые относятся к пятигорскому курорту. Они носят сложные наименования: Восточно-машукско-лысогорский и Восточно-наблюдательно-машукскогорский. Здесь происходит углекислая соляно-щелочная минеральная вода, используемая в бальнеологии и для розлива.
Непосредственное отношение к Константиновскому плато имеют воды расположенного на его границе Баталинского источника. Этот уникальный источник происходит из глинисто-щебнисто-гравийных отложений четвертичного возраста. Вода его холодная высокоминерализованная, сульфатная магниево-натриевая, относящаяся к водам «баталинского типа».
Крупных естественных озёр на Константиновском плато нет, поскольку оно имеет склоновый и эрозионный рельеф без замкнутых котловин. Здесь находятся небольшие естественные водоемы, в том числе и соленые, а также искусственные пруды.
Вдоль южной и восточной окраины протекает река Подкумок — основная водная артерия региона, правый приток Кумы. В сторону этой реки стекают небольшие ручьи и временные водотоки, расположены балки, среди которых выделяется Широкая балка.
Климат
Климат Константиновского плато умеренно континентальный: здесь мягкая зима и жаркое лето. Солнце светит 1756 часов в году.
Июль — самый теплый месяц, со средней температурой 21,7 °C, январь — самый холодный, −4,1 °C.
Безморозный период длится около 179 дней — с середины апреля до середины октября. Дней с температурой выше 20 °C в среднем пятьдесят восемь.
Годовое количество осадков — 548 мм, больше в теплое время года. Неустойчивый снежный покров возможен в среднем к концу ноября, а сходит снег к середине марта. Держится снежный покров в среднем 73 дня, его толщина, как правило, небольшая: 7–11 сантиметров, иногда может достигать 28 сантиметров. Но примерно в сорока процентах зим устойчивого снежного покрова не бывает.
Влажность воздуха здесь выше зимой из-за влажных восточных потоков. Туманы бывают до 96 дней в году, в основном в осенне-зимний период.
Преобладают в этой местности восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра — 3,3 м/с, самый ветреный период в марте – апреле.
Сильные ветры бывают около 20 дней в году, порывы их достигают до 30 м/с. Зимой возможны метели до 12 дней, весной и летом бывают кратковременные пыльные бури продолжительностью до 2 дней.
Самые благоприятные микроклиматические условия на южных и юго-западных склонах Машука, защищенных от восточных ветров. Восточные и северные склоны более влажные, с туманами и нередко гололедом, поэтому менее благоприятны.
Долина реки Подкумок отличается повышенной влажностью и более мягким климатом. Но, если направление ветра совпадает с руслом реки, то сильный разгон ветрового потока в долине может доставить неприятные ощущения.
Неблагоприятные погодные явления, с которыми можно здесь столкнуться в осенне-зимний период: резкое похолодание на 10 °C и более за 1–2 дня, гололед, налипание мокрого снега при ветре 15–29 метров в секунду, сильные туманы, преимущественно ночью и в первой половине дня.
Летом иногда наблюдаются длительные засухи с суховеями.
Сильные, ливневые дожди 15–49 мм, град 6–19 мм и усиление ветра до 20–29 м/с, чаще всего наблюдаются в мае – июне.
Дождливый период бывает и с конца октября до декабря.
Сильный снег и метели наблюдаются со второй декады января до конца февраля.
Климат плато типичен для горно-степного ландшафта. В теплый сезон он вполне благоприятен для отдыха. Нужно учитывать достаточно сильные восточные ветры, зимние туманы, ливни в мае и летние месяцы, а также низкую устойчивость снега.
Июль — самый теплый месяц, со средней температурой 21,7 °C, январь — самый холодный, −4,1 °C.
Безморозный период длится около 179 дней — с середины апреля до середины октября. Дней с температурой выше 20 °C в среднем пятьдесят восемь.
Годовое количество осадков — 548 мм, больше в теплое время года. Неустойчивый снежный покров возможен в среднем к концу ноября, а сходит снег к середине марта. Держится снежный покров в среднем 73 дня, его толщина, как правило, небольшая: 7–11 сантиметров, иногда может достигать 28 сантиметров. Но примерно в сорока процентах зим устойчивого снежного покрова не бывает.
Влажность воздуха здесь выше зимой из-за влажных восточных потоков. Туманы бывают до 96 дней в году, в основном в осенне-зимний период.
Преобладают в этой местности восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра — 3,3 м/с, самый ветреный период в марте – апреле.
Сильные ветры бывают около 20 дней в году, порывы их достигают до 30 м/с. Зимой возможны метели до 12 дней, весной и летом бывают кратковременные пыльные бури продолжительностью до 2 дней.
Самые благоприятные микроклиматические условия на южных и юго-западных склонах Машука, защищенных от восточных ветров. Восточные и северные склоны более влажные, с туманами и нередко гололедом, поэтому менее благоприятны.
Долина реки Подкумок отличается повышенной влажностью и более мягким климатом. Но, если направление ветра совпадает с руслом реки, то сильный разгон ветрового потока в долине может доставить неприятные ощущения.
Неблагоприятные погодные явления, с которыми можно здесь столкнуться в осенне-зимний период: резкое похолодание на 10 °C и более за 1–2 дня, гололед, налипание мокрого снега при ветре 15–29 метров в секунду, сильные туманы, преимущественно ночью и в первой половине дня.
Летом иногда наблюдаются длительные засухи с суховеями.
Сильные, ливневые дожди 15–49 мм, град 6–19 мм и усиление ветра до 20–29 м/с, чаще всего наблюдаются в мае – июне.
Дождливый период бывает и с конца октября до декабря.
Сильный снег и метели наблюдаются со второй декады января до конца февраля.
Климат плато типичен для горно-степного ландшафта. В теплый сезон он вполне благоприятен для отдыха. Нужно учитывать достаточно сильные восточные ветры, зимние туманы, ливни в мае и летние месяцы, а также низкую устойчивость снега.
Почвы
Константиновское плато — это небольшой «геологический конструктор»: под ногами чередуются известняки, травертины и лессовидные суглинки, а мягкий умеренно‑континентальный климат с осадками около 550 мм в год даёт почвам время и влагу, чтобы сформироваться. Поэтому почвенный покров здесь мозаичный: буквально за сотню метров меняются и цвет, и мощность горизонтов, и их каменистость — всё зависит от крутизны и экспозиции склона, растительности и высоты над уровнем моря.
При первом взгляде на почву бросается в глаза большое количество галечника и обкатанных камней, нередко разбитых и разломанных в результате сельскохозяйственной обработки. Это остатки древних речных русел, отчетливо выходящих на поверхность на полях и обработанных сельскохозяйственных угодьях.
На равнинных межбалочных участках и на выпуклых склонах, примыкающих к Машуку (до семисот метров), развиты перегнойно-карбонатные почвы, образующиеся на известняковых слоях. Они, как правило, маломощные и щебнистые, но богаты карбонатами; здесь хорошо чувствуют себя сухолюбивые степные травы. Северные склоны балок и предгорные шлейфы принимают на себя сносимый со склонов рыхлый материал: на этих «подошвах» возникают тёмно-серые лесные оподзоленные и дерновые почвы. На Машуке они поднимаются до 700–900 метров на южном склоне и лежат в диапазоне 400–700 метров — на северном, поддерживая пятна лесной и кустарниковой растительности.
В понижениях — западинах, вогнутых частях плато, на террасах склонов и ровных шлейфах у подножий гор (примерно 400–650 м) формируются среднемощные и мощные серо‑коричневые почвы, местами с вкраплениями чернозёмов. Это самые «сытные» участки: гумусовые горизонты здесь толще, лучше держатся влага и питательные вещества, поэтому такие земли традиционно используют под нужды сельского хозяйства. Выше, на 650–750 м, где на поверхность выходят обломки известняков и древних вулканитов (трахилипаритов), серо‑коричневые почвы становятся скелетными: тонкий профиль, много щебня — и как ответ природы возникают петрофитные степи с ковылём, тимьянами и редкими каменолюбивыми видами.
Есть и другие характерные «пятна» почвенной карты плато. На травертиновых грядах и оголённых известняках формируются дерново‑карбонатные и щебнистые почвы со слабощёлочной реакцией — маломощные, но минерально богатые. На более сухих, открытых южных участках встречаются тёмно‑каштановые варианты с более тонким гумусовым слоем. А в балках и поймах водотоков, связанных с долиной Подкумка, развиты аллювиальные и лугово‑болотные почвы: они мощнее по гумусу, держат влагу и поддерживают пойменные луга и кустарники.
Связь почв и растительности здесь читается легко. Чернозёмные и серо‑коричневые почвы дают богатые разнотравные степи и продуктивные луга, щебнистые и дерново‑карбонатные — лёгкие, пахучие ковыльники с «каменными» эндемиками, аллювиальные — пойменные луга и заросли по оврагам. При этом на пологих участках лесная подстилка успевает накапливаться (1–5 см), а на крутых склонах её часто смывает дождём и талой водой: верхний слой теряется, на поверхность выходят обломки породы, активизируется эрозия.
При первом взгляде на почву бросается в глаза большое количество галечника и обкатанных камней, нередко разбитых и разломанных в результате сельскохозяйственной обработки. Это остатки древних речных русел, отчетливо выходящих на поверхность на полях и обработанных сельскохозяйственных угодьях.
На равнинных межбалочных участках и на выпуклых склонах, примыкающих к Машуку (до семисот метров), развиты перегнойно-карбонатные почвы, образующиеся на известняковых слоях. Они, как правило, маломощные и щебнистые, но богаты карбонатами; здесь хорошо чувствуют себя сухолюбивые степные травы. Северные склоны балок и предгорные шлейфы принимают на себя сносимый со склонов рыхлый материал: на этих «подошвах» возникают тёмно-серые лесные оподзоленные и дерновые почвы. На Машуке они поднимаются до 700–900 метров на южном склоне и лежат в диапазоне 400–700 метров — на северном, поддерживая пятна лесной и кустарниковой растительности.
В понижениях — западинах, вогнутых частях плато, на террасах склонов и ровных шлейфах у подножий гор (примерно 400–650 м) формируются среднемощные и мощные серо‑коричневые почвы, местами с вкраплениями чернозёмов. Это самые «сытные» участки: гумусовые горизонты здесь толще, лучше держатся влага и питательные вещества, поэтому такие земли традиционно используют под нужды сельского хозяйства. Выше, на 650–750 м, где на поверхность выходят обломки известняков и древних вулканитов (трахилипаритов), серо‑коричневые почвы становятся скелетными: тонкий профиль, много щебня — и как ответ природы возникают петрофитные степи с ковылём, тимьянами и редкими каменолюбивыми видами.
Есть и другие характерные «пятна» почвенной карты плато. На травертиновых грядах и оголённых известняках формируются дерново‑карбонатные и щебнистые почвы со слабощёлочной реакцией — маломощные, но минерально богатые. На более сухих, открытых южных участках встречаются тёмно‑каштановые варианты с более тонким гумусовым слоем. А в балках и поймах водотоков, связанных с долиной Подкумка, развиты аллювиальные и лугово‑болотные почвы: они мощнее по гумусу, держат влагу и поддерживают пойменные луга и кустарники.
Связь почв и растительности здесь читается легко. Чернозёмные и серо‑коричневые почвы дают богатые разнотравные степи и продуктивные луга, щебнистые и дерново‑карбонатные — лёгкие, пахучие ковыльники с «каменными» эндемиками, аллювиальные — пойменные луга и заросли по оврагам. При этом на пологих участках лесная подстилка успевает накапливаться (1–5 см), а на крутых склонах её часто смывает дождём и талой водой: верхний слой теряется, на поверхность выходят обломки породы, активизируется эрозия.
Растительный мир
Константиновское плато — живая мозаика степей, лугов и лесов. Рельеф, выходы известняков и травертинов, разная увлажнённость склонов делают растительный покров чрезвычайно пёстрым: на открытых площадках господствуют ковыльные степи и разнотравные луга, а в понижениях и по склонам балок соседствуют дубравы и тенелюбивые сообщества. Особенно ценны суходольные степи и петрофитные участки, приуроченные к карбонатным и травертиновым породам: тонкий каменистый грунт здесь формирует особые «каменолюбивые» флоры.
Леса тянутся прежде всего по более влажным северо‑восточным склонам и в балках. Главный древесный вид — дуб черешчатый (Quercus robur), к нему примешиваются ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), клёны, в том числе клён татарский (Acer tataricum), и липа мелколистная (Tilia cordata).
Подлесок густой и многообразный: лещина обыкновенная (Corylus avellana), жимолость (Lonícera), боярышник (Crataegus), кизильник (Cotoneáster). Местами встречаются крушина ломкая (Frangula alnus) и кустарники декоративного снежноягодника (Symphoricarpos albus). Эти сообщества смягчают микроклимат, удерживают влагу и создают убежища для лесных видов птиц и насекомых.
Открытые поверхности плато и террасы занимают степи — пружинистые ковыльники с ковылём перистым (Stipa pennata), волосатиком (S. capillata) и ковылём Лессинга (S. lessingiana), с дернинами овсяницы валлисской (мелкочешуйчатой, типчака) (Festuca valesiaca) и многочисленными злаками.
В травостое нередки заросли полыни горькой (Artemisia absinthium), колючие экземпляры чертополоха-татарника, именуемого в народе перекати-поле (Carduus crispus), нежные цветы живокости полевой (Delphinium consolida). Здесь же и подмаренник душистый (Galium odoratum), и ядовитые, но лекарственные поросли дурнишника обыкновенного (Xanthium strumarium), похожие на ромашку цветы трёхрёберника непахучего (Tripleurospérmum inodórum).
Окраины полей и придорожные участки поросли, к сожалению, весьма неприятным сорняком амброзией полыннолистной (Ambrosia). Здесь же можно разглядеть и удивительно хрупкие цветы ломелозии (скабиозы) исетской (Lomelosia isetensis), внесенной в Красную книгу Ставропольского края.
На каменистых обнажениях расположились петрофитные сообщества с душистым чабрецом (тимьяном) (Thymus serpyllum) и редкими камнелюбивыми видами.
Луга и разнотравье — визитная карточка плато в тёплый сезон: с поздней весны до начала лета склон за склоном превращается в цветущий ковёр. Встречаются василёк шероховатый (Centaurea scabiosa), несколько видов колокольчиков, включая самый распространенный колокольчик широколистный (Campanula latifolia), шалфей луговой (Salvia pratensis), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), люцерна серповидная (Medicago falcata), донник лекарственный (Melilotus officinalis), герань луговая (Geranium pratense), маргаритка многолетняя (Bellis perennis), львиный зев (Linaria vulgaris) и некоторые представители гвоздичных, например, гвоздика кавказская (Diánthus caucaseus) или смолёвка широколистная (Siléne latifólia).
На карбонатных и травертиновых выходах встречаются редкие и реликтовые растения: астрагал шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus), горечавка крестовидная (Gentiana cruciata), молочай Сегье (Euphorbia seguieriana), змеевик большой (Bistorta major), а ранней весной из‑под прошлогодней травы выглядывает пролеска сибирская (Scilla siberica).
Современный ландшафт несёт и следы хозяйственной деятельности: поля, пастбища, просёлочные дороги, заброшенные карьеры. Местами высажены робиния ложноакациевая, известная в России как белая акация (Robinia pseudoacacia), тополь белый (Populus alba), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), клён ясенелистный (Acer negundo). Они легко закрепляются на нарушенных участках и могут вытеснять аборигенную степную флору, особенно на тонких карбонатных почвах.
В целом растительность Константиновского плато ярко отражает его переходное положение: леса, степи и луга соседствуют благодаря рельефу и гидрогеологии. Центральную роль играют ковыльные степи и луговое разнотравье, а по склонам развиваются дубравы. Наличие редких и эндемичных растений придаёт плато высокую природоохранную ценность.
Леса тянутся прежде всего по более влажным северо‑восточным склонам и в балках. Главный древесный вид — дуб черешчатый (Quercus robur), к нему примешиваются ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), клёны, в том числе клён татарский (Acer tataricum), и липа мелколистная (Tilia cordata).
Подлесок густой и многообразный: лещина обыкновенная (Corylus avellana), жимолость (Lonícera), боярышник (Crataegus), кизильник (Cotoneáster). Местами встречаются крушина ломкая (Frangula alnus) и кустарники декоративного снежноягодника (Symphoricarpos albus). Эти сообщества смягчают микроклимат, удерживают влагу и создают убежища для лесных видов птиц и насекомых.
Открытые поверхности плато и террасы занимают степи — пружинистые ковыльники с ковылём перистым (Stipa pennata), волосатиком (S. capillata) и ковылём Лессинга (S. lessingiana), с дернинами овсяницы валлисской (мелкочешуйчатой, типчака) (Festuca valesiaca) и многочисленными злаками.
В травостое нередки заросли полыни горькой (Artemisia absinthium), колючие экземпляры чертополоха-татарника, именуемого в народе перекати-поле (Carduus crispus), нежные цветы живокости полевой (Delphinium consolida). Здесь же и подмаренник душистый (Galium odoratum), и ядовитые, но лекарственные поросли дурнишника обыкновенного (Xanthium strumarium), похожие на ромашку цветы трёхрёберника непахучего (Tripleurospérmum inodórum).
Окраины полей и придорожные участки поросли, к сожалению, весьма неприятным сорняком амброзией полыннолистной (Ambrosia). Здесь же можно разглядеть и удивительно хрупкие цветы ломелозии (скабиозы) исетской (Lomelosia isetensis), внесенной в Красную книгу Ставропольского края.
На каменистых обнажениях расположились петрофитные сообщества с душистым чабрецом (тимьяном) (Thymus serpyllum) и редкими камнелюбивыми видами.
Луга и разнотравье — визитная карточка плато в тёплый сезон: с поздней весны до начала лета склон за склоном превращается в цветущий ковёр. Встречаются василёк шероховатый (Centaurea scabiosa), несколько видов колокольчиков, включая самый распространенный колокольчик широколистный (Campanula latifolia), шалфей луговой (Salvia pratensis), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), люцерна серповидная (Medicago falcata), донник лекарственный (Melilotus officinalis), герань луговая (Geranium pratense), маргаритка многолетняя (Bellis perennis), львиный зев (Linaria vulgaris) и некоторые представители гвоздичных, например, гвоздика кавказская (Diánthus caucaseus) или смолёвка широколистная (Siléne latifólia).
На карбонатных и травертиновых выходах встречаются редкие и реликтовые растения: астрагал шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus), горечавка крестовидная (Gentiana cruciata), молочай Сегье (Euphorbia seguieriana), змеевик большой (Bistorta major), а ранней весной из‑под прошлогодней травы выглядывает пролеска сибирская (Scilla siberica).
Современный ландшафт несёт и следы хозяйственной деятельности: поля, пастбища, просёлочные дороги, заброшенные карьеры. Местами высажены робиния ложноакациевая, известная в России как белая акация (Robinia pseudoacacia), тополь белый (Populus alba), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), клён ясенелистный (Acer negundo). Они легко закрепляются на нарушенных участках и могут вытеснять аборигенную степную флору, особенно на тонких карбонатных почвах.
В целом растительность Константиновского плато ярко отражает его переходное положение: леса, степи и луга соседствуют благодаря рельефу и гидрогеологии. Центральную роль играют ковыльные степи и луговое разнотравье, а по склонам развиваются дубравы. Наличие редких и эндемичных растений придаёт плато высокую природоохранную ценность.
Животный мир
Константиновское плато хранит длинную «биографию жизни» — от древних морей и населенных мамонтами и слонами степей до сегодняшних лесных опушек с дятлами и лисами.
Самые ранние страницы — Сарматское море. Его осадочные толщи сложены песками с прослоями известняков и конгломератов, где массово встречаются двустворки рода Mactra (M. naviculata, M. praecaspia, M. caspia и др.), реже — Solen. Мощность этих верхнесарматских толщ достигает 30–40 метров и возрастает к востоку. Пласты сарматских «ракушечников» и сегодня легко узнаваемы на обнажаемых срезах земной поверхности.
Позднее на месте моря сформировались речные террасы. В пределах расположенного неподалеку Армянского комплекса ключевую роль играет Лысогорская терраса. Из её аллювия геологи выявили и описали зуб и бивень стегодонта Anancus arvernensis, а затем челюсть южного слона Archidiscodon (Elephas) meridionalis. По совокупности данных террасу относят к верхнеапшеронскому (1,8–0,8 миллиона лет), что соответствует эоплейстоценовому веку по другой классификации. Этой же эпохе соответствует знаменитый травертиновый поток на северном склоне Машука (Перкальская скала): на высоте около 180 метров над урезом Подкумка в нём найдены остатки южного слона Elephas meridionalis. По урановой датировке его возраст — примерно 1,25 миллиона лет. Другие следы «слоновьей страницы» — на восточном склоне Машука: в травертинах встречаются останки слона Elephas aff. antiquus, характерный для начала–середины миндель-рисса (ранний средний плейстоцен). На поверхности это отражается и в «географии находок»: хорошо сохранившиеся кости южного слона обнаружены у вершины Перкальской скалы, а древнего лесного слона — в районе карьера № 5.
В экспозиции Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве хранятся два практически целых скелета южного слона. Они были обнаружены примерно в двух десятках километров от Константиновского плато. Первый скелет был обнаружен в 1960 году в карьере неподалеку от города Георгиевска. Через четыре года там же был обнаружен череп этого животного, который сейчас находится в собрании Пятигорского краеведческого музея. Вполне вероятно, что эти гиганты посещали и окрестности Машука. В любом случае, слоны были привычными обитателями плато в те давние времена.
Самые ранние страницы — Сарматское море. Его осадочные толщи сложены песками с прослоями известняков и конгломератов, где массово встречаются двустворки рода Mactra (M. naviculata, M. praecaspia, M. caspia и др.), реже — Solen. Мощность этих верхнесарматских толщ достигает 30–40 метров и возрастает к востоку. Пласты сарматских «ракушечников» и сегодня легко узнаваемы на обнажаемых срезах земной поверхности.
Позднее на месте моря сформировались речные террасы. В пределах расположенного неподалеку Армянского комплекса ключевую роль играет Лысогорская терраса. Из её аллювия геологи выявили и описали зуб и бивень стегодонта Anancus arvernensis, а затем челюсть южного слона Archidiscodon (Elephas) meridionalis. По совокупности данных террасу относят к верхнеапшеронскому (1,8–0,8 миллиона лет), что соответствует эоплейстоценовому веку по другой классификации. Этой же эпохе соответствует знаменитый травертиновый поток на северном склоне Машука (Перкальская скала): на высоте около 180 метров над урезом Подкумка в нём найдены остатки южного слона Elephas meridionalis. По урановой датировке его возраст — примерно 1,25 миллиона лет. Другие следы «слоновьей страницы» — на восточном склоне Машука: в травертинах встречаются останки слона Elephas aff. antiquus, характерный для начала–середины миндель-рисса (ранний средний плейстоцен). На поверхности это отражается и в «географии находок»: хорошо сохранившиеся кости южного слона обнаружены у вершины Перкальской скалы, а древнего лесного слона — в районе карьера № 5.
В экспозиции Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве хранятся два практически целых скелета южного слона. Они были обнаружены примерно в двух десятках километров от Константиновского плато. Первый скелет был обнаружен в 1960 году в карьере неподалеку от города Георгиевска. Через четыре года там же был обнаружен череп этого животного, который сейчас находится в собрании Пятигорского краеведческого музея. Вполне вероятно, что эти гиганты посещали и окрестности Машука. В любом случае, слоны были привычными обитателями плато в те давние времена.
Современная фауна плато гораздо скромнее по размерам, но не менее интересна.
Здесь отмечено около пятидесяти видов позвоночных: четыре вида земноводных, пять — пресмыкающихся, четырнадцать — млекопитающих и двадцать семь — птиц.
На влажных участках и в балках весной квакают зелёные жабы (Bufotes viridis) и квакши кавказские (Hyla orientalis), встречается малоазиатская лягушка (Rana macrocnemis). В лиственных посадках прячется кавказский тритон, называемый в честь французского герпетолога Луи Амеде Ланца тритоном Ланца (Lissotriton lantzi). На прогретых каменистых склонах снуют ящерицы — скальная кавказская (Darevskia caucasica), прыткая ящерица (Lacerta agilis). Изредка можно встретить веретеницу ломкую (Anguis fragilis) — безногую ящерицу, занесённую в Красную книгу Ставропольского края, а у воды — обитает уж обыкновенный (Natrix natrix).
Млекопитающие представлены привычными для предгорий видами. Под дерном роет ходы кавказский крот (Talpa caucasica), в зарослях шуршат бурозубки (Sorex), в сумерках над полянами кружат летучие мыши — вечерница рыжая (Nyctalus noctula) и кожан поздний (Eptesicus serotinus). На деревьях встречаются белки (Sciurus) и соня лесная (Dryomys nitedula), на полях — полёвки (Microtus arvalis) и мыши полевые (Apodemus agrarius).
Крупных зверей меньше, но их следы заметны на опушках и старых дорогах плато: это лисица обыкновенная (Vulpes vulpes), ласка обыкновенная (Mustela nivalis), редким гостем стал барсук обыкновенный (Meles meles), не менее редким в этих местах — кабан (Sus scrofa).
Птичий мир особенно заметен в тёплый сезон. Над террасами парят черные коршуны (Milvus migrans) и канюки обыкновенные (Buteo buteo), в дубравах стучат дятлы зелёный (Picus viridis) и большой пёстрый (Dendrocopos major), перелетают иволги обыкновенные (Oriolus oriolus) и сойки обыкновенные (Garrulus glandarius), на лугах обитают трясогузки (Motacilla) и коньки луговые (Anthus pratensis). В кустарниках поют славки садовые (Sylvia borin) и пеночки (Phylloscopus), в сумерках подаёт голос сплюшка (Otus scops), а на каменистых россыпях встречается каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe).
Список регулярно отмечаемых видов насчитывает почти три десятка.
Насекомых здесь неисчислимо много, и именно они делают степь и луга такими живыми. На тропах часто попадаются белянка капустная (Pieris brassicae), известная большинству как капустница, и крапивница (Aglais urticae, Nymphalis urticae), но особую ценность представляют редкие виды из Красной книги края: крупнейшая бабочка Кавказа — павлиноглазка грушевая (Saturnia pyri), изящные дневные парусники махаон (Papilio machaon) и подалирий (Iphiclides podalirius), могучая пчёлка‑плотник широкоголовая (Xylocopa), а также занесенные в Красную книгу России жуки красотел пахучий (Calosoma sycophanta) и сияющая бронзовка красивая (Protaetia (Cetonischema) speciosa).
Так по страницам геологической летописи плато проходит красная нить: древнее море — плейстоценовые слоны — сегодняшние степи, луга и дубравы. Чтобы эта история продолжалась, важно бережно относиться к природе: не сходить с троп на каменистых обнажениях, не собирать редких насекомых, не тревожить птиц в сезон гнездования. Тогда живая мозаика Константиновского плато сохранит и «память о слонах», и майское пение соловьёв.
Здесь отмечено около пятидесяти видов позвоночных: четыре вида земноводных, пять — пресмыкающихся, четырнадцать — млекопитающих и двадцать семь — птиц.
На влажных участках и в балках весной квакают зелёные жабы (Bufotes viridis) и квакши кавказские (Hyla orientalis), встречается малоазиатская лягушка (Rana macrocnemis). В лиственных посадках прячется кавказский тритон, называемый в честь французского герпетолога Луи Амеде Ланца тритоном Ланца (Lissotriton lantzi). На прогретых каменистых склонах снуют ящерицы — скальная кавказская (Darevskia caucasica), прыткая ящерица (Lacerta agilis). Изредка можно встретить веретеницу ломкую (Anguis fragilis) — безногую ящерицу, занесённую в Красную книгу Ставропольского края, а у воды — обитает уж обыкновенный (Natrix natrix).
Млекопитающие представлены привычными для предгорий видами. Под дерном роет ходы кавказский крот (Talpa caucasica), в зарослях шуршат бурозубки (Sorex), в сумерках над полянами кружат летучие мыши — вечерница рыжая (Nyctalus noctula) и кожан поздний (Eptesicus serotinus). На деревьях встречаются белки (Sciurus) и соня лесная (Dryomys nitedula), на полях — полёвки (Microtus arvalis) и мыши полевые (Apodemus agrarius).
Крупных зверей меньше, но их следы заметны на опушках и старых дорогах плато: это лисица обыкновенная (Vulpes vulpes), ласка обыкновенная (Mustela nivalis), редким гостем стал барсук обыкновенный (Meles meles), не менее редким в этих местах — кабан (Sus scrofa).
Птичий мир особенно заметен в тёплый сезон. Над террасами парят черные коршуны (Milvus migrans) и канюки обыкновенные (Buteo buteo), в дубравах стучат дятлы зелёный (Picus viridis) и большой пёстрый (Dendrocopos major), перелетают иволги обыкновенные (Oriolus oriolus) и сойки обыкновенные (Garrulus glandarius), на лугах обитают трясогузки (Motacilla) и коньки луговые (Anthus pratensis). В кустарниках поют славки садовые (Sylvia borin) и пеночки (Phylloscopus), в сумерках подаёт голос сплюшка (Otus scops), а на каменистых россыпях встречается каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe).
Список регулярно отмечаемых видов насчитывает почти три десятка.
Насекомых здесь неисчислимо много, и именно они делают степь и луга такими живыми. На тропах часто попадаются белянка капустная (Pieris brassicae), известная большинству как капустница, и крапивница (Aglais urticae, Nymphalis urticae), но особую ценность представляют редкие виды из Красной книги края: крупнейшая бабочка Кавказа — павлиноглазка грушевая (Saturnia pyri), изящные дневные парусники махаон (Papilio machaon) и подалирий (Iphiclides podalirius), могучая пчёлка‑плотник широкоголовая (Xylocopa), а также занесенные в Красную книгу России жуки красотел пахучий (Calosoma sycophanta) и сияющая бронзовка красивая (Protaetia (Cetonischema) speciosa).
Так по страницам геологической летописи плато проходит красная нить: древнее море — плейстоценовые слоны — сегодняшние степи, луга и дубравы. Чтобы эта история продолжалась, важно бережно относиться к природе: не сходить с троп на каменистых обнажениях, не собирать редких насекомых, не тревожить птиц в сезон гнездования. Тогда живая мозаика Константиновского плато сохранит и «память о слонах», и майское пение соловьёв.
Очерк истории
История Константиновского плато — это длинная нить, где один за другим сменяются сюжеты: древние кочевья и «солнце‑курганы», средневековые караванные дороги, пограничная крепость империи, европейские колонии и, наконец, лермонтовские страницы.
Люди издревле жили в этих местах, но Константиновское плато стало местом погребения многих поколений, проживавших здесь.
На этом ветром продуваемом возвышенном плоскогорье археологи насчитали свыше трёхсот курганных захоронений — от бронзового века (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.) до Средневековья (начиная с V — заканчивая рубежом XV—XVI века). Среди них встречаются редкие спиральные кромлехи — «солнце‑курганы». В находках обнаружены предметы майкопской, катакомбной и кобанской культур, а вместе с ними — следы скифов, сарматов и аланов.
Нам доподлинно не известны исторические события тех далеких времен. Но в «Истории» Геродота находится такое описание погребального обряда скифов:
«Когда у скифов умирает царь, то там вырывают большую четырехугольную яму... В остальном обширном пространстве могилы погребают одну из наложниц царя, предварительно задушив ее, а также виночерпия, повара, конюха, телохранителя, вестника, коней, первенцев всех других домашних животных, а также кладут золотые чаши... После этого все вместе насыпают над могилой большой холм, причем наперерыв стараются сделать его как можно выше. Спустя год они... умерщвляют 50 человек из слуг удушением (также 50 самых красивых коней)... Поставив вокруг могилы таких всадников, скифы уходят».
Научный подход к изучению курганов начал формироваться в России в петровскую эпоху.
Император Петр I издал ряд указов, направленных на сбережение и изучение памятников старины. Приказано было «всему делать чертежи, как что найдут», за случайные находки и их добровольную сдачу платить «вдвое, чего они стоят», «гробокопателей, что сыскивают золотые стремена и чашки, смертью казнить».
В XIX веке Дмитрий Яковлевич Самоквасов провёл первые систематические исследования, которые позволили раскрыть масштабы крупнейшего курганного поля на Кавказе. Именно в трудах этого ученого впервые были заложены стандарты и методики археологических раскопок древних курганов.
Уже в средние века здесь пролегали оживлённые пути — караванные тропы, соединявшие Восток и Запад, а ближе к новому времени плато стало узлом дорог Пятигорья.
В 1780‑е на берегу Подкумка, неподалёку от плато, выросла Константиногорская крепость — первое стационарное русское укрепление в Пятигорье, часть оборонительных линий империи; рядом возникла слободка, а интерес к «Горячим водам» только креп. В 1825 году через Константиновское плато проложили почтовый тракт из Георгиевска к Горячим Водам: он шёл левобережьем Подкумка, вдоль южного склона Горячей горы и западнее горько‑солёных озёр. В наши дни этот путь частично сохранился. Он пролегает по улицам Теплосерная, Фабричная на территории Пятигорска и далее по улице Шоссейная станицы Константиновская до посёлка Нижнеподкумский.
В эпоху кавказских войн на плато располагались казачьи укрепления, пикеты, призванные охранять от набегов зарождающийся курорт.
Начало XIX столетия привнесло европейские краски: на восточном склоне Бештау шотландские миссионеры основали колонию Каррас (ныне это поселок Иноземцево), а рядом обосновались немецкие поселенцы Николаевской колонии (ныне район железнодорожной станции Машук), появилась станица Константиновская. Здесь развивали садоводство и виноградарство, которое долго оставалось визитной карточкой этих мест.
Особое место в истории этой местности занимает лермонтовская тема. Летом 1841 года поэт жил и создавал свои бессмертные произведения в Пятигорске. Его легендарное «Выхожу один я на дорогу…» он написал в конце мая — начале июня 1841 года, как предполагают, в Ставрополе, а «кремнистый путь» из второй строки исследователи трактуют как лаконичный этюд кавказского пейзажа, среди которого поэт провёл последние месяцы. В местной традиции этот образ нередко связывают с Георгиевским трактом на Константиновском плато — дорогой, по которой к курортам прибывали из уездного Георгиевска.
15 июля 1841 года Лермонтов отправился на роковую встречу: по историческим сведениям — из Карраса; место самой дуэли находилось у дороги на Николаевскую колонию (ныне Иноземцево), у подножия Машука. Так поэтическая биография слилась с географией плато.
Сегодня, проходя по ветреным террасам между Машуком и Бештау, легко представить, как тысячелетия назад здесь возводили курганы, как звенели упряжи караванов и как в лунном свете «кремнистый путь блестит» — образ, благодаря которому Константиновское плато осталось не только на картах и в археологических описях, но и в русской поэзии.
В XX веке Константиновское плато осталось тем же ветреным перекрёстком дорог — но сюжеты вокруг него стали куда драматичнее. В годы Гражданской войны (1918–1920 годы) предгорья не раз переходили из рук в руки. По трактам между Машуком и Бештау тянулись обозы, на плато размещались разъезды и заслоны, санаторные корпуса в округе превращались в госпитали. Смена власти приносила реквизиции и мобилизации, а на тихих террасах, среди курганов, порой шли короткие, но ожесточённые бои.
Между войнами курортный пояс Кавказских Минеральных Вод рос: прокладывали новые дороги, укрепляли почтово‑грузовые пути, закладывали виноградники и сады, оформляли охранные зоны вокруг ключевых природных и археологических объектов. Константиновское плато с его курганными полями попадало в маршрут экскурсионных прогулок, а краеведы и археологи продолжали исследовать древние насыпи.
Великая Отечественная война обрушилась стремительно. Летом 1942 года фронт подошёл к Пятигорску, и окрестности оказались в зоне оккупации; освобождение пришло в январе 1943‑го. Плато и соседние склоны служили наблюдательными и артиллерийскими позициями, на дорогах к Подкумку стояли противотанковые заграждения, а с высоты курганов контролировали подходы к курортной котловине.
После освобождения советские люди начали восстанавливать хозяйство, санаторно ‑ курортную сеть и дорожную инфраструктуру. Память о той войне сохраняется на братских могилах и памятных знаках в окрестностях, на школьных «походах памяти» по старым просёлкам и на бережном отношении к земляным шрамам — окопам и воронкам, которые местами ещё читаются в рельефе.
Послевоенные десятилетия придали плато более мирное лицо. Развивались виноградарство и садоводство, укреплялись берега балок.
В 1946 году в поселке Иноземцево был создан виноградный совхоз «Машук», а в станице Константиновской — винсовхоз «Горячеводский». На прилегающих территориях были разбиты фруктовые сады и виноградники. Эти угодья располагались и на Константиновском плато. Совхозы выпускали винодельческую продукцию. Наибольшую известность получило белое шипучее вино под названием «Машук». Выпускалось вино Рислинг и Сильванер «Бештау», а также десертное вино «Горный цветок».
С 1950 года по наши дни на плато активно проводятся раскопки и исследования курганов, в том числе с применением современных средств.
Так история Константиновского плато в XX–XXI веках складывается из послевоенного восстановления, научной охраны и новой культуры бережного путешествия. Но сегодня плато — это сельскохозяйственные угодья, жилая застройка и участки лесов и степей. И посреди всего этого разнообразия еще возвышаются древние курганы.
Люди издревле жили в этих местах, но Константиновское плато стало местом погребения многих поколений, проживавших здесь.
На этом ветром продуваемом возвышенном плоскогорье археологи насчитали свыше трёхсот курганных захоронений — от бронзового века (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.) до Средневековья (начиная с V — заканчивая рубежом XV—XVI века). Среди них встречаются редкие спиральные кромлехи — «солнце‑курганы». В находках обнаружены предметы майкопской, катакомбной и кобанской культур, а вместе с ними — следы скифов, сарматов и аланов.
Нам доподлинно не известны исторические события тех далеких времен. Но в «Истории» Геродота находится такое описание погребального обряда скифов:
«Когда у скифов умирает царь, то там вырывают большую четырехугольную яму... В остальном обширном пространстве могилы погребают одну из наложниц царя, предварительно задушив ее, а также виночерпия, повара, конюха, телохранителя, вестника, коней, первенцев всех других домашних животных, а также кладут золотые чаши... После этого все вместе насыпают над могилой большой холм, причем наперерыв стараются сделать его как можно выше. Спустя год они... умерщвляют 50 человек из слуг удушением (также 50 самых красивых коней)... Поставив вокруг могилы таких всадников, скифы уходят».
Научный подход к изучению курганов начал формироваться в России в петровскую эпоху.
Император Петр I издал ряд указов, направленных на сбережение и изучение памятников старины. Приказано было «всему делать чертежи, как что найдут», за случайные находки и их добровольную сдачу платить «вдвое, чего они стоят», «гробокопателей, что сыскивают золотые стремена и чашки, смертью казнить».
В XIX веке Дмитрий Яковлевич Самоквасов провёл первые систематические исследования, которые позволили раскрыть масштабы крупнейшего курганного поля на Кавказе. Именно в трудах этого ученого впервые были заложены стандарты и методики археологических раскопок древних курганов.
Уже в средние века здесь пролегали оживлённые пути — караванные тропы, соединявшие Восток и Запад, а ближе к новому времени плато стало узлом дорог Пятигорья.
В 1780‑е на берегу Подкумка, неподалёку от плато, выросла Константиногорская крепость — первое стационарное русское укрепление в Пятигорье, часть оборонительных линий империи; рядом возникла слободка, а интерес к «Горячим водам» только креп. В 1825 году через Константиновское плато проложили почтовый тракт из Георгиевска к Горячим Водам: он шёл левобережьем Подкумка, вдоль южного склона Горячей горы и западнее горько‑солёных озёр. В наши дни этот путь частично сохранился. Он пролегает по улицам Теплосерная, Фабричная на территории Пятигорска и далее по улице Шоссейная станицы Константиновская до посёлка Нижнеподкумский.
В эпоху кавказских войн на плато располагались казачьи укрепления, пикеты, призванные охранять от набегов зарождающийся курорт.
Начало XIX столетия привнесло европейские краски: на восточном склоне Бештау шотландские миссионеры основали колонию Каррас (ныне это поселок Иноземцево), а рядом обосновались немецкие поселенцы Николаевской колонии (ныне район железнодорожной станции Машук), появилась станица Константиновская. Здесь развивали садоводство и виноградарство, которое долго оставалось визитной карточкой этих мест.
Особое место в истории этой местности занимает лермонтовская тема. Летом 1841 года поэт жил и создавал свои бессмертные произведения в Пятигорске. Его легендарное «Выхожу один я на дорогу…» он написал в конце мая — начале июня 1841 года, как предполагают, в Ставрополе, а «кремнистый путь» из второй строки исследователи трактуют как лаконичный этюд кавказского пейзажа, среди которого поэт провёл последние месяцы. В местной традиции этот образ нередко связывают с Георгиевским трактом на Константиновском плато — дорогой, по которой к курортам прибывали из уездного Георгиевска.
15 июля 1841 года Лермонтов отправился на роковую встречу: по историческим сведениям — из Карраса; место самой дуэли находилось у дороги на Николаевскую колонию (ныне Иноземцево), у подножия Машука. Так поэтическая биография слилась с географией плато.
Сегодня, проходя по ветреным террасам между Машуком и Бештау, легко представить, как тысячелетия назад здесь возводили курганы, как звенели упряжи караванов и как в лунном свете «кремнистый путь блестит» — образ, благодаря которому Константиновское плато осталось не только на картах и в археологических описях, но и в русской поэзии.
В XX веке Константиновское плато осталось тем же ветреным перекрёстком дорог — но сюжеты вокруг него стали куда драматичнее. В годы Гражданской войны (1918–1920 годы) предгорья не раз переходили из рук в руки. По трактам между Машуком и Бештау тянулись обозы, на плато размещались разъезды и заслоны, санаторные корпуса в округе превращались в госпитали. Смена власти приносила реквизиции и мобилизации, а на тихих террасах, среди курганов, порой шли короткие, но ожесточённые бои.
Между войнами курортный пояс Кавказских Минеральных Вод рос: прокладывали новые дороги, укрепляли почтово‑грузовые пути, закладывали виноградники и сады, оформляли охранные зоны вокруг ключевых природных и археологических объектов. Константиновское плато с его курганными полями попадало в маршрут экскурсионных прогулок, а краеведы и археологи продолжали исследовать древние насыпи.
Великая Отечественная война обрушилась стремительно. Летом 1942 года фронт подошёл к Пятигорску, и окрестности оказались в зоне оккупации; освобождение пришло в январе 1943‑го. Плато и соседние склоны служили наблюдательными и артиллерийскими позициями, на дорогах к Подкумку стояли противотанковые заграждения, а с высоты курганов контролировали подходы к курортной котловине.
После освобождения советские люди начали восстанавливать хозяйство, санаторно ‑ курортную сеть и дорожную инфраструктуру. Память о той войне сохраняется на братских могилах и памятных знаках в окрестностях, на школьных «походах памяти» по старым просёлкам и на бережном отношении к земляным шрамам — окопам и воронкам, которые местами ещё читаются в рельефе.
Послевоенные десятилетия придали плато более мирное лицо. Развивались виноградарство и садоводство, укреплялись берега балок.
В 1946 году в поселке Иноземцево был создан виноградный совхоз «Машук», а в станице Константиновской — винсовхоз «Горячеводский». На прилегающих территориях были разбиты фруктовые сады и виноградники. Эти угодья располагались и на Константиновском плато. Совхозы выпускали винодельческую продукцию. Наибольшую известность получило белое шипучее вино под названием «Машук». Выпускалось вино Рислинг и Сильванер «Бештау», а также десертное вино «Горный цветок».
С 1950 года по наши дни на плато активно проводятся раскопки и исследования курганов, в том числе с применением современных средств.
Так история Константиновского плато в XX–XXI веках складывается из послевоенного восстановления, научной охраны и новой культуры бережного путешествия. Но сегодня плато — это сельскохозяйственные угодья, жилая застройка и участки лесов и степей. И посреди всего этого разнообразия еще возвышаются древние курганы.
Памятники археологии и истории
Константиновское плато, расположенное к востоку от горы Машук в Пятигорске, представляет собой уникальный археологический ландшафт, известный как крупнейшее курганное поле Северного Кавказа. В XIX веке здесь насчитывалось свыше пяти тысяч курганов, сегодня же сохранилось немногим более трёхсот. Несмотря на разрушения, именно это место остаётся одним из важнейших центров изучения древней истории Предкавказья.
Первые сведения о плато появились в научной литературе ещё в середине XIX века.
На I Археологическом съезде 1869 года обсуждался вопрос о классификации курганов. Было предложено разделить их на погребальные и «простые». Последние могут служить сторожевыми, обсервационными или маячными пунктами, а также указывать на границы.
В 1879–1881 годах, в период подготовки к V Археологическому съезду в Тифлисе, кавказоведы В. В. Антонович и В. Л. Бернштам исследовали курганы у северных отрогов Машука. Тогда же выдающийся русский археолог Дмитрий Яковлевич Самоквасов провёл раскопки в районе Константиновской колонии, где были обнаружены бронзовые зеркала, оружие и керамика. В начале XX века к исследованиям подключился Всеволод Ростиславович Апухтин, а позднее значительный вклад внёс краевед Андрей Петрович Рунич, автор «Археологической карты Пятигорья». Обнаруженные находки ныне хранятся в Государственном историческом, Пятигорском краеведческом музеях, а также в музейных собраниях Ставрополя, Москвы и Санкт‑Петербурга.
Археологическая ценность Константиновского плато исключительно высока. Здесь зафиксированы памятники от энеолита (V тысячелетие до н. э.) до позднего Средневековья (XV–XVII века). Курганы связаны с разными археологическими культурами: майкопской, северокавказской (катакомбной), кобанской; встречаются также погребения скифов, сарматов, аланов и адыгов. Особый интерес вызывают уникальные «солнце‑курганы», окружённые каменными кромлехами и усами, образующими гигантские символические рисунки.
К числу наиболее значимых памятников относятся зарегистрированные археологические объекты. Это курганный могильник «Константиновский‑1», расположенный севернее станицы Константиновской, датируемый эпохой бронзы и поздним Средневековьем; он включён в реестр памятников археологии Ставропольского края и содержит захоронения скифов, сарматов, аланов и адыгов. Могильник «Константиновский‑3», относящийся к периоду от энеолита до Средневековья, дал более 160 погребений майкопской, катакомбной и северокавказской культур, а также сарматов и аланов. В наши дни был исследован могильник «Константиновский‑16», подтверждающий непрерывность использования некрополя на протяжении тысячелетий.
Кроме того, в исторической и культурной взаимосвязи с плато находится Новопятигорский курган в Новопятигорске — многослойный памятник, в котором нижние слои связаны с эпохой бронзы и скифским временем, а верхние содержат захоронения солдат Константиногорской крепости и жертв чумных эпидемий XIX века. Этот объект имеет статус памятника федерального значения. Взаимосвязь имеется и с другими археологическими памятниками Пятигорска и всего региона Кавказских Минеральных Вод.
В константиновских курганах конца IV–II тысячелетия до н. э. обнаружены бронзовые топоры, кинжалы, серпы и булавки; в погребениях предскифского времени — зооморфные подвески и культовые предметы.
Особое место занимает комплекс, раскопанный в 1955 году А. П. Руничем, где был найден инвентарь скифской эпохи: бронзовое зеркало, железные ножи, колчанный крюк и сероглиняная кружка.
В 1970‑е годы краевед Николай Сергеевич Колоколов исследовал поселение предскифского времени у Константиновского кожзавода, датируемое VIII–VII вв. до н. э., где древние жители использовали курган‑укрепление как оборонительное сооружение.
Некоторые курганы Константиновского плато относятся к так называемой «старокабардинской группе» XV–XVII веков и имеют аналоги у железнодорожной станции Лермонтовская.
В ряде мест сохранились остатки средневековых укреплений X–XII столетий, служивших защитой от кочевников и остатки казачьих пикетов.
Таким образом, Константиновское плато представляет собой археологический комплекс, отражающий более пяти тысяч лет истории. Солнце‑курганы эпохи бронзы, погребения скифов и сарматов, захоронения алан, курганы средневековых адыгов — всё это образует непрерывный культурный пласт, который не имеет аналогов на Северном Кавказе. Сегодня плато охраняется законом, а его памятники включены в список объектов культурного наследия регионального и федерального уровня.
Первые сведения о плато появились в научной литературе ещё в середине XIX века.
На I Археологическом съезде 1869 года обсуждался вопрос о классификации курганов. Было предложено разделить их на погребальные и «простые». Последние могут служить сторожевыми, обсервационными или маячными пунктами, а также указывать на границы.
В 1879–1881 годах, в период подготовки к V Археологическому съезду в Тифлисе, кавказоведы В. В. Антонович и В. Л. Бернштам исследовали курганы у северных отрогов Машука. Тогда же выдающийся русский археолог Дмитрий Яковлевич Самоквасов провёл раскопки в районе Константиновской колонии, где были обнаружены бронзовые зеркала, оружие и керамика. В начале XX века к исследованиям подключился Всеволод Ростиславович Апухтин, а позднее значительный вклад внёс краевед Андрей Петрович Рунич, автор «Археологической карты Пятигорья». Обнаруженные находки ныне хранятся в Государственном историческом, Пятигорском краеведческом музеях, а также в музейных собраниях Ставрополя, Москвы и Санкт‑Петербурга.
Археологическая ценность Константиновского плато исключительно высока. Здесь зафиксированы памятники от энеолита (V тысячелетие до н. э.) до позднего Средневековья (XV–XVII века). Курганы связаны с разными археологическими культурами: майкопской, северокавказской (катакомбной), кобанской; встречаются также погребения скифов, сарматов, аланов и адыгов. Особый интерес вызывают уникальные «солнце‑курганы», окружённые каменными кромлехами и усами, образующими гигантские символические рисунки.
К числу наиболее значимых памятников относятся зарегистрированные археологические объекты. Это курганный могильник «Константиновский‑1», расположенный севернее станицы Константиновской, датируемый эпохой бронзы и поздним Средневековьем; он включён в реестр памятников археологии Ставропольского края и содержит захоронения скифов, сарматов, аланов и адыгов. Могильник «Константиновский‑3», относящийся к периоду от энеолита до Средневековья, дал более 160 погребений майкопской, катакомбной и северокавказской культур, а также сарматов и аланов. В наши дни был исследован могильник «Константиновский‑16», подтверждающий непрерывность использования некрополя на протяжении тысячелетий.
Кроме того, в исторической и культурной взаимосвязи с плато находится Новопятигорский курган в Новопятигорске — многослойный памятник, в котором нижние слои связаны с эпохой бронзы и скифским временем, а верхние содержат захоронения солдат Константиногорской крепости и жертв чумных эпидемий XIX века. Этот объект имеет статус памятника федерального значения. Взаимосвязь имеется и с другими археологическими памятниками Пятигорска и всего региона Кавказских Минеральных Вод.
В константиновских курганах конца IV–II тысячелетия до н. э. обнаружены бронзовые топоры, кинжалы, серпы и булавки; в погребениях предскифского времени — зооморфные подвески и культовые предметы.
Особое место занимает комплекс, раскопанный в 1955 году А. П. Руничем, где был найден инвентарь скифской эпохи: бронзовое зеркало, железные ножи, колчанный крюк и сероглиняная кружка.
В 1970‑е годы краевед Николай Сергеевич Колоколов исследовал поселение предскифского времени у Константиновского кожзавода, датируемое VIII–VII вв. до н. э., где древние жители использовали курган‑укрепление как оборонительное сооружение.
Некоторые курганы Константиновского плато относятся к так называемой «старокабардинской группе» XV–XVII веков и имеют аналоги у железнодорожной станции Лермонтовская.
В ряде мест сохранились остатки средневековых укреплений X–XII столетий, служивших защитой от кочевников и остатки казачьих пикетов.
Таким образом, Константиновское плато представляет собой археологический комплекс, отражающий более пяти тысяч лет истории. Солнце‑курганы эпохи бронзы, погребения скифов и сарматов, захоронения алан, курганы средневековых адыгов — всё это образует непрерывный культурный пласт, который не имеет аналогов на Северном Кавказе. Сегодня плато охраняется законом, а его памятники включены в список объектов культурного наследия регионального и федерального уровня.
Наиболее изученные могильники
Константиновский‑1
Могильник расположен на южной окраине плато, севернее села Константиновское. Включает несколько курганных насыпей, часть из них разрушена распашкой, однако сохранившиеся насыпи датируются от эпохи бронзы (конец IV – II тыс. до н. э.) до позднего Средневековья (XVII–XVIII вв.). Здесь выявлены погребения скифов и сарматов, а также аланские и кабардинские захоронения. Особый интерес представляют бронзовые и железные наконечники стрел, керамика с орнаментами, а также предметы быта. Могильник включён в список памятников археологии Ставропольского края и охраняется как объект культурного наследия.
Константиновский‑2
Местоположение — восточная часть плато, ближе к склонам горы Лысой. Этот могильник менее известен, но его значение не уступает другим: здесь выявлены как одиночные курганы, так и группы из четырёх–пяти насыпей. Датировка охватывает период от бронзового века до аланского времени. В раскопках найдены позднебронзовые сосуды, обломки катакомбной керамики, железные ножи, детали конской упряжи. Захоронения показывают тесные связи населения Предкавказья с кочевыми культурами степной зоны Причерноморья. Несмотря на меньшую «известность» по сравнению с Константиновским‑1 и 3, данный могильник играет важную роль для понимания культурной преемственности региона.
Константиновский‑3
Этот комплекс является одним из крупнейших и наиболее изученных. Здесь зафиксировано не менее 167 погребений, относящихся к различным эпохам — от энеолита, именуемого также медным веком (V тыс. до н. э.), до Средневековья. В материалах раскопок представлены комплексы майкопской культуры (шлифованные каменные топоры, сосуды с орнаментом), северокавказской катакомбной традиции (захоронения в земляных камерах), а также кобанской культуры (бронзовые булавки, оружие, украшения). Найдены сарматские погребения с наконечниками стрел и стременами, а также аланские комплексы III–V веков н. э. Именно Константиновский‑3 является ключом к пониманию многотысячелетней хронологии плато, и на его основании исследователи делают выводы о преемственности культурных традиций.
В 2024 году официально внесён в перечень объектов культурного наследия Российской Федерации могильник Константиновский‑16, подтверждающий длительность использования территории под захоронения.
Константиновское плато — это уникальный археологический комплекс, имеющий мировое значение. Могильники Константиновский-1, Константиновский-2 и Константиновский-3, а также Константиновский-16 и Новопятигорский курган предоставляют материалы, охватывающие период от энеолита до XVII века. Они отражают культурные традиции различных народов, населявших Северный Кавказ. История здесь представлена в виде наслоения исторических эпох, что делает плато своеобразной «хроникой в камне», продолжающей раскрывать перед учёными страницы прошлого.
Константиновский‑1
Могильник расположен на южной окраине плато, севернее села Константиновское. Включает несколько курганных насыпей, часть из них разрушена распашкой, однако сохранившиеся насыпи датируются от эпохи бронзы (конец IV – II тыс. до н. э.) до позднего Средневековья (XVII–XVIII вв.). Здесь выявлены погребения скифов и сарматов, а также аланские и кабардинские захоронения. Особый интерес представляют бронзовые и железные наконечники стрел, керамика с орнаментами, а также предметы быта. Могильник включён в список памятников археологии Ставропольского края и охраняется как объект культурного наследия.
Константиновский‑2
Местоположение — восточная часть плато, ближе к склонам горы Лысой. Этот могильник менее известен, но его значение не уступает другим: здесь выявлены как одиночные курганы, так и группы из четырёх–пяти насыпей. Датировка охватывает период от бронзового века до аланского времени. В раскопках найдены позднебронзовые сосуды, обломки катакомбной керамики, железные ножи, детали конской упряжи. Захоронения показывают тесные связи населения Предкавказья с кочевыми культурами степной зоны Причерноморья. Несмотря на меньшую «известность» по сравнению с Константиновским‑1 и 3, данный могильник играет важную роль для понимания культурной преемственности региона.
Константиновский‑3
Этот комплекс является одним из крупнейших и наиболее изученных. Здесь зафиксировано не менее 167 погребений, относящихся к различным эпохам — от энеолита, именуемого также медным веком (V тыс. до н. э.), до Средневековья. В материалах раскопок представлены комплексы майкопской культуры (шлифованные каменные топоры, сосуды с орнаментом), северокавказской катакомбной традиции (захоронения в земляных камерах), а также кобанской культуры (бронзовые булавки, оружие, украшения). Найдены сарматские погребения с наконечниками стрел и стременами, а также аланские комплексы III–V веков н. э. Именно Константиновский‑3 является ключом к пониманию многотысячелетней хронологии плато, и на его основании исследователи делают выводы о преемственности культурных традиций.
В 2024 году официально внесён в перечень объектов культурного наследия Российской Федерации могильник Константиновский‑16, подтверждающий длительность использования территории под захоронения.
Константиновское плато — это уникальный археологический комплекс, имеющий мировое значение. Могильники Константиновский-1, Константиновский-2 и Константиновский-3, а также Константиновский-16 и Новопятигорский курган предоставляют материалы, охватывающие период от энеолита до XVII века. Они отражают культурные традиции различных народов, населявших Северный Кавказ. История здесь представлена в виде наслоения исторических эпох, что делает плато своеобразной «хроникой в камне», продолжающей раскрывать перед учёными страницы прошлого.
Литература и искусство
Константиновское плато в Пятигорске более известно как крупнейший курганный некрополь Северного Кавказа, но оно имеет и культурное измерение, вплетённое в историко‑литературный контекст Кавказских Минеральных Вод. В отличие от гор Машук или Бештау, которые часто становились героями литературных произведений и живописных полотен, само плато редко упоминается в художественной литературе и изобразительном искусстве. Однако именно оно является частью того пейзажа, который вдохновлял поэтов и художников XIX века.
С позапрошлого века исследователи быта и культуры кавказских народов обнаруживали в легендах, преданиях и устном творчестве местных горцев, терцев, казаков упоминания о курганах Константиновского плато.
Жители Северного Кавказа с почтением и некоторым страхом относились к этой местности, называя курганы «могилами великанов», считая их местом упокоения давно живших богатырей, которые «спят до страшного суда». Некоторые легенды созвучны мотивам «проклятия гробниц» (подобно египетским пирамидам). Они гласили, что тот, кто раскапывает «старые могилы», заболеет или с ним случится беда.
У кабардинцев и осетин бытовали предания, что курганы — это «глаза земли», стражи, следящие за степью. В адыгской традиции считалось, что курганы образовались из «праха нартов» (героев Нартского эпоса), павших в битвах.
Осетинский героический эпос так описывает эту местность.
«Когда пал герой Сослан, насыпи на его могиле были выше леса, стало видно их во всём ущелье».
«Скинули землю, навалили курган, и назвали то место Нартовым холмом».
«Каждый богатырь сидел под собственным холмом, и землю над ними считали священной».
«Эти холмы — не простая трава, под ними лежат воины. Земля сама поднялась, укрыла их, чтоб враг не топтал костей».
«Мертвых клали в медные гробницы, сверху насыпали земли, и курган становился сторожем поля».
А ниже выдержки из Нартского эпоса, отражающие воззрения адыгов, кабардинцев, черкесов.
«Когда нартовские старшие пали, над каждым был насыпан холм, чтобы люди издалека видели путь предков».
«Курганы на равнине — это глаза земли: смотрят, чтобы чужак не вошёл тайно».
«Горы сделали насыпи над героями. С этих бугров видно и Эльбрус, и степь».
В преданиях казаков долго сохранялось поверье, что в курганах якобы зарыто золото «скифских ханш». Местные жители ещё в XIX веке пытались искать здесь клады, при этом за плато закрепилось устойчивое народное название «Мёртвое поле».
Эта местность нашла свое описание в XVIII–XIX веках в записях немецкого и русского ученого Петра Симона Палласа, упоминавшего «огромные насыпи у Машука», а также в трудах других путешественников и исследователей.
Безусловно, к ярким описаниям этой местности можно отнести и труды археологов, изучавших древние захоронения Пятигорья.
Александр Сергеевич Пушкин во время пребывания на Кавказских Минеральных Водах знакомился с местной культурой, ездил в Кисловодск и Тифлис. В Пятигорске он жил недолго, а потому и Константиновское плато в его произведениях не отражено. Тем не менее общий образ земли древнескифских могил, подымающихся из степи к Машуку, совпадал с тем колоритом, который Пушкин передал в «Кавказском пленнике» и других сочинениях:
Пред ним пустынные равнины
Лежат зеленой пеленой;
Там холмов тянутся грядой
Однообразные вершины;
Меж них уединенный путь
Вдали теряется угрюмой:
(А. С. Пушкин. «Кавказский пленник», 1821—1822 гг.)
Михаил Юрьевич Лермонтов, проведший последние месяцы жизни в Пятигорске, часто бывал у Машука и на его восточных склонах. Отсюда ему открывались панорамы Подкумской долины и Константиновского плато. Пусть он и не упоминал его напрямую в своих произведениях, но именно этот ландшафт был источником вдохновения, рождавшего строки о кавказской природе и ощущении «дикой старины», столь близкой по настроению к археологическим курганам под Машуком. Народные предания о загадочных насыпях и их древних жителях бытовали в Пятигорске и вполне могли быть знакомы поэту.
Лермонтоведы утверждают, что текст знаменитого стихотворения «Выхожу один я на дорогу», написанного в роковом 1841 году, навеян именно прогулками по пятигорским дорогам, пролегающим у подножья Машука, среди которых был и путь на Георгиевск, проходящий вблизи Константиновского плато.
1
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
2
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?
3
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
4
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
Это стихотворение оказалось настолько музыкальным, что еще в позапрошлом веке оно стало основой для более чем двадцати вариантов романсов. Среди тех, кого вдохновило это стихотворение, были композитор, автор множества романсов, Пётр Петрович Булахов, композитор и дирижер Константин Петрович Вильбоа, социалист-утопист, по меткому замечанию Владимира Ильича Ленина, «разбудивший Россию» Николай Платонович Огарёв.
Однако наибольшую популярность романс приобрел с музыкой Елизаветы Сергеевны Шашиной. Именно ее музыкальную версию исполняли легендарный Сергей Яковлевич Лемешев, проникновенная Анна Герман, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Александр Малинин.
Другие писатели и путешественники XIX–XX веков также не оставили ярких художественных упоминаний именно плато, хотя историки и археологи уже вовсю работали на его курганах. Дмитрий Яковлевич Самоквасов, Всеволод Ростиславович Апухтин, Андрей Петрович Рунич оставили описания, которые вдохновляли краеведов, музейщиков и художников.
В конце XIX века панорамные литографии и гравюры Пятигорска иногда включали восточный край Машука с выходами на Константиновское плато, а значит, оно всё же вошло в изобразительное искусство — пусть фоном, но как важная часть пейзажа Кавказских Минеральных Вод.
Константиновское плато нашло свое отражение в альбомах XIX века. Его образ можно найти, например, в литографиях из альбома Г. Гагарина («Виды Кавказа», 1847–49 гг.). гравюрах с «Видом Пятигорска и окрестностей» в журналах «Нива», «Отечественные записки». На них есть изображения Машука с восточной стороны, видно плато, курганы.
Рисунки в альбомах путешественников Петра Симона Палласа, Фредерика Дюбуа де Монпере и других также можно увидеть восточные склоны Машука. Известны некоторые работы местных и приезжих художников с видами плато и находящихся на нем курганов. Графические и живописные работы хранятся в музеях и частных коллекциях, в том числе в Пятигорском краеведческом музее.
Необходимо выделить триптих «Тайна седых курганов», созданный Валерием Николаевичем Арзумановым, заслуженным художником Российской Федерации, народным художником Российской Федерации и членом-корреспондентом Российской Академии Художеств.
На Константиновском плато съёмки кинофильмов никогда не велись. Тем не менее курганное поле незримо существовало как скрытая хроника тысячелетий рядом с декорациями фильмов и сериалов.
В музыке и театре плато прямо не отражалось, но в советское время материалы его раскопок вдохновляли краеведов и просветителей: лекции и концертные программы в Пятигорске нередко сопровождались рассказами о «солнце‑курганах» и «основоположниках древнего искусства Кавказа». Экспонаты из могильников заняли своё место в Пятигорском краеведческом музее и в музейных коллекциях Москвы и Санкт-Петербурга. Они становились частью выставок и тематических постановок, где искусство соединялось с археологией.
Таким образом, Константиновское плато не стало местом действия известных литературных произведений и центром киносъёмок, но его тень лежит на всём культурном пространстве Пятигорска. Оно видно на пейзажах, которые вдохновляли Лермонтова, оно хранит ту самую архаику древних погребений, которая интересовала Пушкина, оно присутствует в музейных залах и в краеведческой памяти. И именно этим — своей глубиной и ненавязчивым присутствием в истории Константиновское плато заняло особое место в русской культуре и художественном освоении Кавказа.
С позапрошлого века исследователи быта и культуры кавказских народов обнаруживали в легендах, преданиях и устном творчестве местных горцев, терцев, казаков упоминания о курганах Константиновского плато.
Жители Северного Кавказа с почтением и некоторым страхом относились к этой местности, называя курганы «могилами великанов», считая их местом упокоения давно живших богатырей, которые «спят до страшного суда». Некоторые легенды созвучны мотивам «проклятия гробниц» (подобно египетским пирамидам). Они гласили, что тот, кто раскапывает «старые могилы», заболеет или с ним случится беда.
У кабардинцев и осетин бытовали предания, что курганы — это «глаза земли», стражи, следящие за степью. В адыгской традиции считалось, что курганы образовались из «праха нартов» (героев Нартского эпоса), павших в битвах.
Осетинский героический эпос так описывает эту местность.
«Когда пал герой Сослан, насыпи на его могиле были выше леса, стало видно их во всём ущелье».
«Скинули землю, навалили курган, и назвали то место Нартовым холмом».
«Каждый богатырь сидел под собственным холмом, и землю над ними считали священной».
«Эти холмы — не простая трава, под ними лежат воины. Земля сама поднялась, укрыла их, чтоб враг не топтал костей».
«Мертвых клали в медные гробницы, сверху насыпали земли, и курган становился сторожем поля».
А ниже выдержки из Нартского эпоса, отражающие воззрения адыгов, кабардинцев, черкесов.
«Когда нартовские старшие пали, над каждым был насыпан холм, чтобы люди издалека видели путь предков».
«Курганы на равнине — это глаза земли: смотрят, чтобы чужак не вошёл тайно».
«Горы сделали насыпи над героями. С этих бугров видно и Эльбрус, и степь».
В преданиях казаков долго сохранялось поверье, что в курганах якобы зарыто золото «скифских ханш». Местные жители ещё в XIX веке пытались искать здесь клады, при этом за плато закрепилось устойчивое народное название «Мёртвое поле».
Эта местность нашла свое описание в XVIII–XIX веках в записях немецкого и русского ученого Петра Симона Палласа, упоминавшего «огромные насыпи у Машука», а также в трудах других путешественников и исследователей.
Безусловно, к ярким описаниям этой местности можно отнести и труды археологов, изучавших древние захоронения Пятигорья.
Александр Сергеевич Пушкин во время пребывания на Кавказских Минеральных Водах знакомился с местной культурой, ездил в Кисловодск и Тифлис. В Пятигорске он жил недолго, а потому и Константиновское плато в его произведениях не отражено. Тем не менее общий образ земли древнескифских могил, подымающихся из степи к Машуку, совпадал с тем колоритом, который Пушкин передал в «Кавказском пленнике» и других сочинениях:
Пред ним пустынные равнины
Лежат зеленой пеленой;
Там холмов тянутся грядой
Однообразные вершины;
Меж них уединенный путь
Вдали теряется угрюмой:
(А. С. Пушкин. «Кавказский пленник», 1821—1822 гг.)
Михаил Юрьевич Лермонтов, проведший последние месяцы жизни в Пятигорске, часто бывал у Машука и на его восточных склонах. Отсюда ему открывались панорамы Подкумской долины и Константиновского плато. Пусть он и не упоминал его напрямую в своих произведениях, но именно этот ландшафт был источником вдохновения, рождавшего строки о кавказской природе и ощущении «дикой старины», столь близкой по настроению к археологическим курганам под Машуком. Народные предания о загадочных насыпях и их древних жителях бытовали в Пятигорске и вполне могли быть знакомы поэту.
Лермонтоведы утверждают, что текст знаменитого стихотворения «Выхожу один я на дорогу», написанного в роковом 1841 году, навеян именно прогулками по пятигорским дорогам, пролегающим у подножья Машука, среди которых был и путь на Георгиевск, проходящий вблизи Константиновского плато.
1
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
2
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?
3
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
4
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
Это стихотворение оказалось настолько музыкальным, что еще в позапрошлом веке оно стало основой для более чем двадцати вариантов романсов. Среди тех, кого вдохновило это стихотворение, были композитор, автор множества романсов, Пётр Петрович Булахов, композитор и дирижер Константин Петрович Вильбоа, социалист-утопист, по меткому замечанию Владимира Ильича Ленина, «разбудивший Россию» Николай Платонович Огарёв.
Однако наибольшую популярность романс приобрел с музыкой Елизаветы Сергеевны Шашиной. Именно ее музыкальную версию исполняли легендарный Сергей Яковлевич Лемешев, проникновенная Анна Герман, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Александр Малинин.
Другие писатели и путешественники XIX–XX веков также не оставили ярких художественных упоминаний именно плато, хотя историки и археологи уже вовсю работали на его курганах. Дмитрий Яковлевич Самоквасов, Всеволод Ростиславович Апухтин, Андрей Петрович Рунич оставили описания, которые вдохновляли краеведов, музейщиков и художников.
В конце XIX века панорамные литографии и гравюры Пятигорска иногда включали восточный край Машука с выходами на Константиновское плато, а значит, оно всё же вошло в изобразительное искусство — пусть фоном, но как важная часть пейзажа Кавказских Минеральных Вод.
Константиновское плато нашло свое отражение в альбомах XIX века. Его образ можно найти, например, в литографиях из альбома Г. Гагарина («Виды Кавказа», 1847–49 гг.). гравюрах с «Видом Пятигорска и окрестностей» в журналах «Нива», «Отечественные записки». На них есть изображения Машука с восточной стороны, видно плато, курганы.
Рисунки в альбомах путешественников Петра Симона Палласа, Фредерика Дюбуа де Монпере и других также можно увидеть восточные склоны Машука. Известны некоторые работы местных и приезжих художников с видами плато и находящихся на нем курганов. Графические и живописные работы хранятся в музеях и частных коллекциях, в том числе в Пятигорском краеведческом музее.
Необходимо выделить триптих «Тайна седых курганов», созданный Валерием Николаевичем Арзумановым, заслуженным художником Российской Федерации, народным художником Российской Федерации и членом-корреспондентом Российской Академии Художеств.
На Константиновском плато съёмки кинофильмов никогда не велись. Тем не менее курганное поле незримо существовало как скрытая хроника тысячелетий рядом с декорациями фильмов и сериалов.
В музыке и театре плато прямо не отражалось, но в советское время материалы его раскопок вдохновляли краеведов и просветителей: лекции и концертные программы в Пятигорске нередко сопровождались рассказами о «солнце‑курганах» и «основоположниках древнего искусства Кавказа». Экспонаты из могильников заняли своё место в Пятигорском краеведческом музее и в музейных коллекциях Москвы и Санкт-Петербурга. Они становились частью выставок и тематических постановок, где искусство соединялось с археологией.
Таким образом, Константиновское плато не стало местом действия известных литературных произведений и центром киносъёмок, но его тень лежит на всём культурном пространстве Пятигорска. Оно видно на пейзажах, которые вдохновляли Лермонтова, оно хранит ту самую архаику древних погребений, которая интересовала Пушкина, оно присутствует в музейных залах и в краеведческой памяти. И именно этим — своей глубиной и ненавязчивым присутствием в истории Константиновское плато заняло особое место в русской культуре и художественном освоении Кавказа.
Транспорт и доступность
Попасть на плато возможно по нескольким направлениям: со стороны горы Машук, спустившись по проселочным дорогам и тропам, с объездной дороги вокруг города Пятигорска, с территории посёлков Иноземцево, Капельница или станицы Константиновской. По плато проложены просёлочные дороги и пешеходные тропы, идущие по открытой местности и местами через лесные массивы.
Самая удобная для прогулок и экскурсий – юго-западная часть плато, примыкающая к Пятигорску и горе Машук. К северо-востоку территория менее освоена, соответственно, менее доступна.
Рельеф плато в центральной части пологий, с постепенными поднятиями и локальными возвышенностями, но на южных склонах встречаются более крутые участки и короткие обрывы.
Просёлочные дороги пригодны для пеших прогулок и проезда в сухую погоду, но при осадках и в период весеннего таяния снега становятся размытыми и труднопроходимыми. Некоторые участки доступны только для автомобилей высокой проходимости или для пешеходов.
Для людей с ограниченными возможностями передвижения самостоятельное посещение плато затруднено. Грунтовые дороги и тропы не имеют твёрдого покрытия, уклоны местами превышают допустимый для колясочного маршрута. Доступ возможен только при сопровождении и с использованием специально подготовленного транспорта высокой проходимости.
Следует отметить, что некоторые уникальные археологические объекты расположены на сельскохозяйственных угодьях или охраняемых территориях. Условия их посещения следует уточнять заранее.
Наиболее подходящее время для путешествия сюда — конец весны и начало осени. В эти сезоны воздух становится приятным для пеших прогулок, а земля достаточно высыхает, чтобы передвигаться по грунтовым дорогам без риска их размытия. В летние месяцы солнце становится особенно жарким, и на открытых участках практически нет тени. Поэтому, отправляясь на прогулку по плато, важно иметь защиту от палящего солнца и достаточное количество воды.
Константиновское плато стоит посетить в сухую погоду. Однако это место не подходит для туристов с ограниченной подвижностью. Для похода туда нужна хорошая физическая подготовка.
Время посещения зависит от ваших планов, возможностей и может составлять от одного часа до нескольких дней.
Самая удобная для прогулок и экскурсий – юго-западная часть плато, примыкающая к Пятигорску и горе Машук. К северо-востоку территория менее освоена, соответственно, менее доступна.
Рельеф плато в центральной части пологий, с постепенными поднятиями и локальными возвышенностями, но на южных склонах встречаются более крутые участки и короткие обрывы.
Просёлочные дороги пригодны для пеших прогулок и проезда в сухую погоду, но при осадках и в период весеннего таяния снега становятся размытыми и труднопроходимыми. Некоторые участки доступны только для автомобилей высокой проходимости или для пешеходов.
Для людей с ограниченными возможностями передвижения самостоятельное посещение плато затруднено. Грунтовые дороги и тропы не имеют твёрдого покрытия, уклоны местами превышают допустимый для колясочного маршрута. Доступ возможен только при сопровождении и с использованием специально подготовленного транспорта высокой проходимости.
Следует отметить, что некоторые уникальные археологические объекты расположены на сельскохозяйственных угодьях или охраняемых территориях. Условия их посещения следует уточнять заранее.
Наиболее подходящее время для путешествия сюда — конец весны и начало осени. В эти сезоны воздух становится приятным для пеших прогулок, а земля достаточно высыхает, чтобы передвигаться по грунтовым дорогам без риска их размытия. В летние месяцы солнце становится особенно жарким, и на открытых участках практически нет тени. Поэтому, отправляясь на прогулку по плато, важно иметь защиту от палящего солнца и достаточное количество воды.
Константиновское плато стоит посетить в сухую погоду. Однако это место не подходит для туристов с ограниченной подвижностью. Для похода туда нужна хорошая физическая подготовка.
Время посещения зависит от ваших планов, возможностей и может составлять от одного часа до нескольких дней.
Гостиницы, кафе и магазины
Для посетителей этого объекта доступна вся санаторная и гостиничная сеть городов Пятигорска и Железноводска. Гостевые дома, туристические базы и другие объекты размещения отдыхающих расположены в поселках Иноземцево, Капельница, станице Константиновская, а также на водоемах Широкой балки.
На территории населенных пунктов можно найти кафе, столовые и другие места общественного питания от самых бюджетных до дорогих.
Здесь же расположены магазины и рынки, в том числе самый большой в Пятигорске рынок «Лира».
В поход на труднодоступные участки Константиновского плато рекомендуется брать воду и еду с собой, а также учитывать, что магазины и объекты сервиса находятся только в населенных пунктах.
На территории населенных пунктов можно найти кафе, столовые и другие места общественного питания от самых бюджетных до дорогих.
Здесь же расположены магазины и рынки, в том числе самый большой в Пятигорске рынок «Лира».
В поход на труднодоступные участки Константиновского плато рекомендуется брать воду и еду с собой, а также учитывать, что магазины и объекты сервиса находятся только в населенных пунктах.
Безопасность и рекомендации посетителям
Посещение плато безопасно в светлое время суток. Планируя прогулку по этой местности, следует позаботиться о запасе питьевой воды и еды.
Советуем выбирать сухую бесснежную погоду. Не рекомендуем посещать плато при густом тумане, обледенении или сильном ветре. В жаркое время года необходимо соблюдать осторожность на открытых местах.
Не все участки плато доступны для людей, имеющих ограничения в передвижении пешком.
В некоторых местах имеются крутые участки и обрывы скальных пород. Соблюдайте осторожность.
На территории садовых товариществ, в полях и прилегающих местностях могут обитать стаи одичавших собак. В лесном массиве возможна встреча с дикими животными.
Советуем выбирать сухую бесснежную погоду. Не рекомендуем посещать плато при густом тумане, обледенении или сильном ветре. В жаркое время года необходимо соблюдать осторожность на открытых местах.
Не все участки плато доступны для людей, имеющих ограничения в передвижении пешком.
В некоторых местах имеются крутые участки и обрывы скальных пород. Соблюдайте осторожность.
На территории садовых товариществ, в полях и прилегающих местностях могут обитать стаи одичавших собак. В лесном массиве возможна встреча с дикими животными.
горы пятигорска
Окрестные высоты.
Главная достопримечательность Пятигорска.
Машук на карте.
Как устроен Машук? География и геология.
Место зарождения пятигорского курорта.
Свидетель суровых лет.
Место рождения пятигорских нарзанов.
Памятник природы и истории.
Другие возвышенности Пятигорска.
Некоторые горы на территории Пятигорска, по мнению ученых, являются спутниками главной достопримечательности — Машука. К таковым можно отнести небольшие и малоизвестные большинству гостей города горы Дубровка (Бритая), Пикет и Пост.
Но есть и другие примечательные возвышенности, на которые следует обратить внимание. Это безымянная вершина 585 метров, называемая еще горой Сосновой или возвышенные места Армянской террасы.
Посетите страницы, посвященные этим достопримечательным местам.
Но есть и другие примечательные возвышенности, на которые следует обратить внимание. Это безымянная вершина 585 метров, называемая еще горой Сосновой или возвышенные места Армянской террасы.
Посетите страницы, посвященные этим достопримечательным местам.
Памятник природы и археологии.
Военный бастион Пятигорска.
Останцовая гора в черте города..
Гора в черте Пятигорска. Памятник природы и археологии.
вернемся в пятигорск
Возвращаемся на страничку Пятигорска.
Вы можете перейти на главную страницу Пятигорска, ознакомиться с основными географическими объектами города или почитать познавательную литературу о курорте на нашей книжной полке.
Основной раздел Пятигорска.
Горы, реки, озера и долины города.
Научная, краеведческая и художественная литература о Пятигорске.
